Твердые шаги
Март 1943 года. Две трети нашей бригады находятся в междуречье, остальные в Себежском и Идрицком районах. Чаще действуем из засад. 3 марта боевая группа Константина Сентерева у деревни Демиденки напала на гитлеровцев из гарнизона Заситино, направлявшихся на очередной грабеж в деревню Козырево. Солдат было более 70 человек. Все хорошо вооружены. У партизан два преимущества — внезапность нападения, знание местности... Оставив на дороге девять убитых и несколько подвод, фашисты ретировались в гарнизон.
7 марта разведчики Александр Куклев, Федор Иванов, Валентин Косткин, Николай Глинский, Егор Тереня, Виктор Кузьмин, Николай Вилей, Александр Лебедев, Сергей Величко, Нина Петраченко и Риф Габайдулин под командованием Сергея Шуваева, находясь на северо-западе Красногородского района, устроили засаду на дороге между деревнями Лямоиы и Гавры. Меткий дружный огонь их преградил путь взводу гитлеровцев, отправившихся из Гавров на какое-то задание. Трофеи смельчаков — оружие убитых, много патронов.
В деревне Лямоны располагался полицейский гарнизон. Небольшой, но уж очень рьяные служаки собрались в нем. Решено было ликвидировать это осиное гнездо. Поручили «приговор» привести в исполнение взводу Шуваева. Лихой разведчик Леонид Егоров рассказывал позже:
«Морозной ночью мы тихо подъехали на лошадях к деревне. Устроили засаду на шоссе Красногородск — Лямоны на случай, если фашисты по пытаются подбросить подкрепление своим прихвостням. Только хотели идти к околице, как вдруг заметили подростка на дороге. Остановили. Спрашиваем:
— Как зовут?
— Толькой.
— Откуда идешь так поздно?
— Из Котляровки. У родственников был.
— А полицаи в Лямонах есть?
Отвечал бойко паренек и вдруг насторожился. Смотрит исподлобья:
— А вы кто такие?
— Партизаны мы.
— Полицаи вы, только не лямонские. Тех я всех знаю.
— Чудак парень,— приблизился к Анатолию Шуваев,—ты ж посмотри — на мне фуражка морская и тельняшка, а краснофлотцы разве могут быть полицаями?
— Не могут,— согласился Толя и отчеканил: — Вы — партизаны, я — пионер. Пойдемте помогу!
Толя Терентьев рассказал, что видел несколько полицаев на гулянке в Котляровке. Они собирались домой. Шуваев остался встречать загулявших предателей, а мы во главе с Владимиром Петровым вошли в деревню. У казармы Петрова и Терентьева окликнул часовой. Толя закричал:
— Это я, Толька Терентьев. С дружком с масленицы идем. Бутылка самогона есть.
Терентьев жил рядом с казармой, его знали. Часовой пригласил:
— Давай сюда. Пригубить спиртного на морозе не...
Договорить он не успел. Рука у Петрова была тяжелая и верная. Пять минут грохота и одурелых криков спросонья — и с полицаями было покончено. А возвращавшихся с гулянки мы задержали, судили и уничтожили как изменников Родины. Уходя, договорились еще раз встретиться с Анатолием, задание ему дали.
Не состоялась эта встреча. Утром в Лямоны примчались гитлеровцы. По дороге они подобрали тяжело раненного полицая, притворившегося при партизанах мертвым. Он выдал маленького героя. Фашисты расстреляли Толю и вместе с ним его мать и сестру».
 | 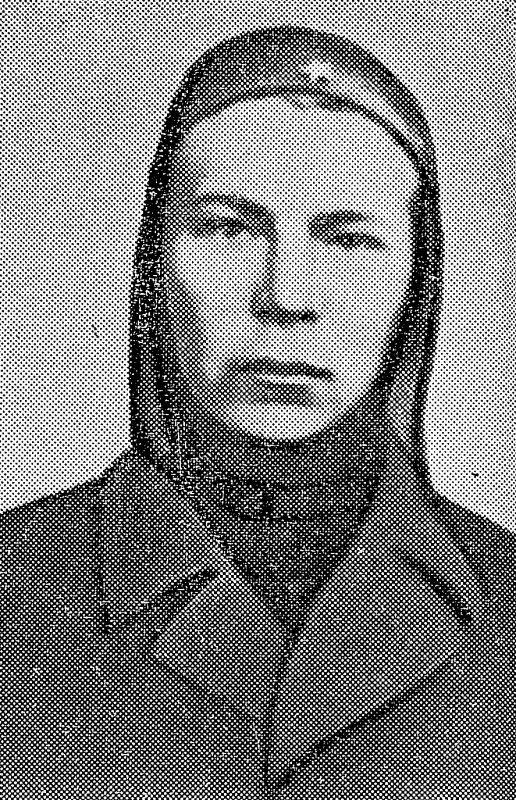 |
| Л. З. Егоров - партизан-разведчик | В. И. Величко - партизан-разведчик |
Много смелых дел было на боевом счету у бригадных разведчиков. И немалая заслуга в этом их командира Сергея Степановича Шуваева. Высокий, с тяжелой силой в плечах. Под темными дугами бровей пытливые, чуть насмешливые глаза. Надо было видеть, каким яростным гневом загорались они, когда в решительный момент он поднимался в атаку с криком:
— Полундра! За мной, ребята! Круши гадов!
Сергей никогда не расставался с морской фуражкой. Бывало, скажут ему товарищи:
— Серега, одень что-либо потеплее. Ведь зима все-таки.
Усмехнется в ответ:
— В ней начал воевать, в ней и до Берлина дойду.
Был неразговорчив. Из скупого рассказа его знали, что служил он на корабле, а воевал в морской пехоте, попал контуженным в плен, бежал. Сам ленинградец. Автор питает надежду, что, прочитав эти строчки, откликнутся родные нашего героя и его боевые товарищи по службе на Балтике. Пас Шуваев разыскал при формировании бригады осенью сорок второго.
Под стать командиру были и другие бригадные разведчики. Помкомвзвода Володя Петров — человек гордой отваги, весельчак, гармонист. Сержант Александр Куклев — смелый и осторожный разведчик. Григорий Петров — ни при каких обстоятельствах не унывающий восемнадцатилетний паренек, готовый идти на самое отчаянное дело.
Среди разведчиков отрядов были люди среднего возраста: Иван Степанович Богданов, Семен Дмитриевич Дмитриев, Афанасий Кириллович Хандашев, Герасим Ефимович Ефимов, Иван Григорьевич Баранов, Василий Александрович Чухнов, Николай Никандрович Орлов. За плечами у каждого — годы работы, армия, у некоторых и боевой опыт.
Были и молодые ребята. Леонид Егоров в первые дни войны сдавал последний экзамен в педагогическом училище. А Володе Величко в сорок первом шестнадцать исполнилось. Однако к нам он пришел уже обстрелянный — партизанил в отряде Карпенко, был ранен.
В начале марта в бригадной разведке появился свой «доктор». Николай Иванов привел в подразделение медицинскую сестру Валю Михайлову. Девушка скрывалась в деревне Заболотники Себежского района. Ее хотели угнать в Германию. У Михайловой, несмотря на молодость, был фронтовой опыт. В сорок первом она работала в госпиталях с тяжело раненными. Валя быстро прижилась среди суровых мужественных ребят. Она умела быть и поваром, и прачкой. Ходила в разведку, мерзла в засадах.
Разведчики любили своего скромного, застенчивого, смелого «доктора». Валя платила им тем же. Была со всеми приветливой, ласковой. И лишь тому, кто ее встретил первым, уделяла внимание немножко больше... Они и сейчас по жизни идут рядом — Николай Павлович Иванов и Валентина Николаевна Михайлова, радуя своей дружбой, пронесенной сквозь десятилетия, нас — бывших партизан.
И на успех наших боевых дел в марте, и на усиление политической работы с населением влияли вести о разгроме фашистских армий на берегах Волги. Сталинград. Это слово было на устах у всех. Казалась, сам воздух им пропитан. Как-то ночью после довольно шумного обсуждения одной малоуспешной операции вышли мы с Александром Солдатовым из штабной избы на улицу. Потихоньку вьюжило, но уже не по-зимнему.
— Отчего так зло выступал, старший лейтенант? — спросил я его.
— Полегло много наших.
— Где? — не понял я.
— У Волги. Такая победа завоевывается большой кровью. И она требует,— всегда довольно спокойный Солдатов опять загорячился,— да, да, товарищ комбриг, требует от нас большего. Нельзя, как это...
— Стоп, Александр Михайлович,—-прервал я его.— Уже все обсуждено. Ты прав, но остынь. И скажи мне лучше, не чувствуешь ли ты, чем пахнет?
— Шуткуете, товарищ комбриг.
— Нет, серьезно.
— Весной, наверно.
— А весна приносит что? —продолжал я задавать вопросы своему недоумевающему заместителю.
— Тепло, свежий ветер, половодье.
— Точно, Александр Михайлович. Половодье. Оно сметает все на своем пути. А если половодье партизанское, то и крупные...
— Неужели Савкинский мост? — теперь уже меня перебил Солдатов, сходу разгадав направление разговора.
— Да. Савкинский. Завтра еду к уполномоченному штаба партизанского движения. Знаем об этом пока комиссар, ты и я. Иди спать.
— Уснешь тут...
Это была первая крупная наступательная операция объединенных партизанских сил. 23 отряда партизан, общей численностью 3 тысячи человек, обрушились в ночь на 31 марта 1943 года одновременно на несколько фашистских гарнизонов и главный объект — Савкинский мост.
Комбриги давно мечтали о такой операции. Мост находился на основной железнодорожной магистрали Резекне — Новосокольники, на участке между станциями Идрица — Пустошка. Путь двухколейный. Река Неведрянка неширокая, но мост с двумя фермами, длиною около ста метров. Подходы к нему— болотистая равнина. Да и враг зря время не терял — оборону создал жесткую. Дзоты, минные поля, колючая проволока в четыре кола, на насыпи пулеметные точки, минометы.
Операцией руководили уполномоченные штаба партизанского движения майоры А. И. Штрахов, И. И. Веселов. Основные силы для операции дали бригады А. М. Гаврилова, Ф. Т. Бойдина, А. В. Романова (белорусы), В. Г. Семина. Нашей бригаде отводилась вспомогательная роль: обеспечить тылы штурмующих отрядов со стороны станции Идрица.
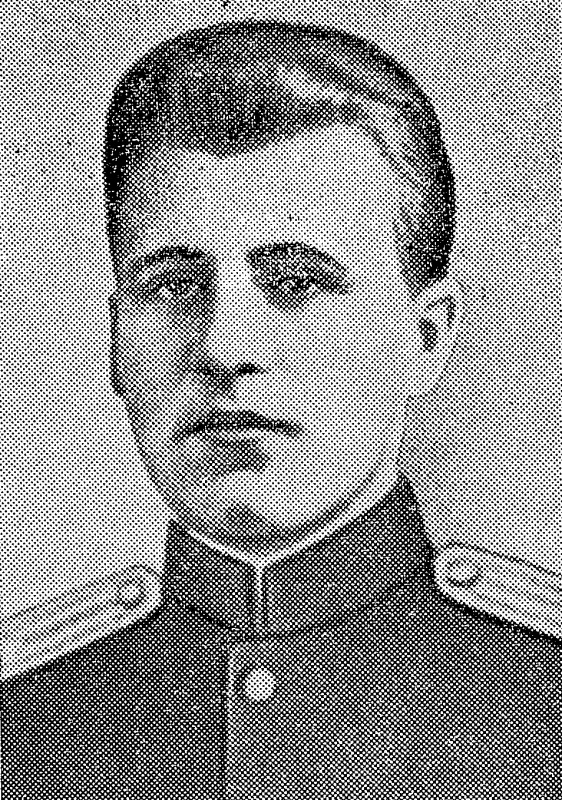
И. И. Веселов - уполномоченный штаба партизанского движения Калининской области
Операция готовилась основательно. Ей предшествовали агентурная разведка, командирская рекогносцировка. Пятидесятикилометровый марш из района сосредоточения сил, несмотря на распутицу, был совершен точно по времени. Незамеченными проскочили отряды шоссейную и железную дороги. В четыре утра две зеленые ракеты прочертили промозглый воздух. Начался штурм.
Два часа продолжался бой у насыпи и в деревне Савкино. Рвались гранаты и мины на подступах к станции Нащекино и поселку Могильно, гремели взрывы и автоматные очереди на дорогах, идущих от Идрицы. Партизаны нашей бригады (отряды И. В. Жукова и П. 3. Позднякова) в это время взорвали большой деревянный мост через реку Ливица на шоссе Пустошка — Идрица, уничтожили телеграфную связь на протяжении полкилометра и, заняв удобные позиции на восточном берегу Ливицы, изготовились к бою. Но удар по Савкинскому мосту был настолько неожиданным и ошеломляющим, что комендант Пустошки не успел выслать помощь. Посланные из Идрицы к Савкину автомашины с автоматчиками натолкнулись на сильный партизанский заслон. И не прошли.
В шесть утра два мощных взрыва возвестили о завершении операции. Одна ферма моста рухнула в воду, вторая, подорванная, повисла над рекой. Движение эшелонов было остановлено на 15 суток, истреблены гарнизоны Савкина, Нащекина, Могильно, уничтожено шесть шоссейных мостов, захвачены богатые трофеи (пулеметы, автоматы, 60 кавалерийских лошадей с седлами, провиант) и пленные. Радость победы омрачила весть о гибели нескольких человек, в том числе и руководителя всего сражения Ивана Ивановича Веселова... Когда дымная заря встала над опаленной огнем землей, партизанское войско уже отходило от железной дороги в южном направлении.
...Стояли первые апрельские дни. По народному поверью щука в это время хвостом легко лед разбивает. Но на озерах Идрицкого района он еще держался, и о нем мы не раз вспоминали в разговоре с Алексеем Ивановичем Штраховым. Я докладывал ему боевую схему разгрома фашистского гарнизона в поселке Сутоки.
Штрахов знал войну не понаслышке, с фашистами дело имел еще до Великой Отечественной — воевал в Испании на стороне республиканской армии в середине тридцатых годов, был комиссаром Калининского партизанского корпуса осенью 1942-го. Он согласился с нашим мнением, что наступать на. гарнизон с севера рискованно. Там шоссе проходит и железная дорога, и противник быстро сможет перебросить подкрепления из крупных гарнизонов в Пустошке и Идрице.
Южное направление тоже было нами отвергнуто. Партизаны других бригад однажды пробовали прорваться из леса к поселку, но безрезультатно. После этого гитлеровцы сильно укрепили южный район. Здесь были сосредоточены главные огневые средства гарнизона. О них я имел точные данные от наших разведчиков. Вот тогда Алексей Иванович и спросил:
— Каково состояние льда на Сутокском озере?
— Лед еще крепок, но у берегов уже полоса воды шириной метров двадцать. Не будь ее, один из отрядов послал бы на штурм по льду.
— Но и позади выбранной вами позиции есть озера и речки,— не сдавался Штрахов.— Коль не удастся ворваться в Сутоки, противник прижмет нас к этой водной системе с непрочным льдом.
— А мы обязательно ворвемся, Алексей Иванович. Отхода без победы не будет. Это не только мое мнение, но и комиссара бригады Козлова, начальника разведки Солдатова. Советовались мы с командирами и комиссарами отрядов.
— Ну коли так, действуйте,— улыбнулся Штрахов и официальным тоном сказал: — Приказываю,товарищ комбриг, разгромить сутокский гарнизон оккупантов.
Сутоки считались крепким орешком. Гарнизон — почти три сотни гитлеровцев и полицаев. Вооружение: пушка, минометы, девять пулеметов, у всех немцев автоматы. Проволочные заграждения имелись в изобилии, на предполагаемо опасных направлениях протянуты в три ряда. Кирпичные подвалы десяти зданий приспособлены для огневых точек. Всего 24 дзота. Отрыты глубокие траншеи. Но разгрызть этот орешек следовало во что бы то ни стало. Он был своеобразным форпостом немецких гарнизонов на железной дороге между Себежем и Пустошкой, охраняя подступы к ним.
Был ли я, давая заверения уполномоченному штаба, твердо уверен в успехе?
Да, был уверен. За плечами отрядов бригады успешные открытые бои, результативные диверсии на дорогах, налеты из засад. От боя к бою бригада превращалась в слаженный, дисциплинированный коллектив.
Штрахов уехал, я вышел на улицу. У деревьев кое-где еще виднелись бурые кольца осевшего снега. Светило солнце. Весенние капли радостно постукивали— тепь, тепь. Апрель входил в силу.
Мы, калининские партизаны, тоже набирали силу, и от этого на душе было спокойно. Итак, решено было штурмовать Сутоки с северо-запада, со стороны болота, окаймляющего озеро. Отсюда партизаны вряд ли нападут, решали мы задачу за противника, местность от поселка совершенно открытая. Датой штурма наметили ночь с 13 на 14 апреля. Нам в помощь Штрахов приказал выделить отряд Александрова из второй бригады и одну пушку.
И вот мы в пути. Идти не близко — более трех десятков километров. Отдал приказ всех встречных людей задерживать, дабы каким-либо образом до Суток не донеслась весть о приближающейся опасности. Установил пароль на операцию: «Дуб — береза».
Необычное задание получил командир отряда Поздняков. Ему во главе усиленного взвода предстояло скрытно подойти как можно ближе к гарнизону с юга, окопаться и открыть сильный огонь, создавая видимость направления главного удара.
— Шуми как можно громче, Петр Захарович— говорил я ему, ставя задачу. — Не жалейте патронов и глоток тоже.Будет сделано, товарищ комбриг,— заверь Поздняков.
— Такой шум подымем, что на кладбище и мертвые очнутся,— добавил политрук взвода Юрий Якимов.
Основной удар наносился с запада на восток силами отрядов «25 лет Октября», «Смерть оккупантам» и имени Жданова. Резерв (командир Солдатов) обосновался на высоте 108.9, где находились командный пункт бригады и Штрахов с группой автоматчиков. Посланный нам на помощь отряд 2-й Калининской бригады под командованием Андрея Андриановича Александрова оседлал шоссе на Идрицу, откуда фашисты могли послать помощь сутокскому гарнизону. На завершающем этапе операции в бой должен был вступить один из отрядов З-й бригады.
Ночь, обычная союзница партизан, поначалу не хотела помогать нам. На небо выкатился месяц. Пришлось перенести начало штурма с 2 часов на 3 часа, Правда, час этот не пропал даром. Командиры присмотрелись к местности, бойцы по-пластунски поползли на исходные рубежи. Ближе всех к противнику расположил своих разведчиков-гранатометчиков Сергей Шуваев.
 | 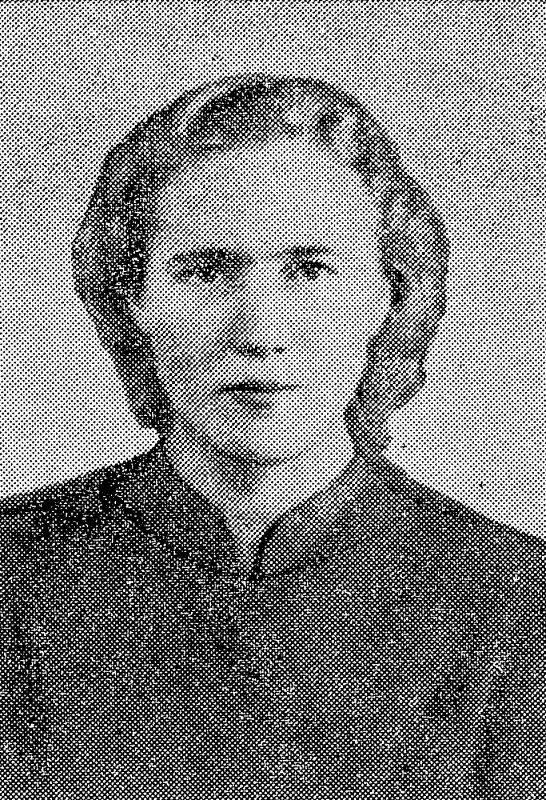 |
| П. Г. Романов - секретарь подпольного райкома ВКП(б), комиссар бригады | В. Н. Бусова (Белова) - политрук взвода |
...3 часа 5 минут. Первый выстрел. Секунда, вторая — и засверкало все окрест. Не стрельба — сплошная канонада.
Молодец Поздняков! Фашисты клюнули на нашу удочку и открыли по отряду огонь из всех видов оружия. Этим воспользовались Шуваев и его товарищи, приблизившиеся первыми к Сутокам,— на пулеметные гнезда, на дзоты обрушился град гранат.
Я дал сигнал ракетами начать общую атаку. Ночь сменила светлые тона на более темные, что было нам на руку, но трассирующие пули освещали низину которую предстояло преодолеть бойцам. И тут гитлеровцы, поняв свою ошибку, начали сосредоточивать огонь по подходам к гарнизону с запада. Часть партизан залегла. Ко мне подошел Штрахов, спокойно сказал:
— Николай Михайлович, промедление — угроза операции.
Я и сам понимал это и крикнул автоматчикам, охранявшим командный пункт:
— За мной, ребята!
Под прикрытием холма мы выбежали на шоссе, идущее от станции Идрица, прыгнули в кювет и поползли к залегшей цепи атакующих. Сзади меня полз Павел Гаврилович Романов. Он всегда старался быть там, где накал боя.
Наше появление в цепи не прошло незамеченным. Рассказывали после, что я, отдавая команды, употреблял и крепкие слова. Может быть. В азарте боя всякое бывает. Одно помню: подбежавшему ко мне командиру отряда Рожко, пытавшемуся что-то доложить, я бросил два слова:
— Ваня, вперед!
Сопротивлялись гитлеровцы ожесточенно. Засев в каменных зданиях школы, больницы и аптеки, они губительным огнем отсекали бросавшихся на штурм партизан. Сопротивление врага сломили гранатометчики Григорий Никитин, Петр Осипов, Эдуард Сипченко, Валентин Косткин, Александр Дмитриев, Виктор Красиков, Николай Прищепов, Поликарп Романов, Федор Слесаренок, Петр Лукашонок, Ива Сосновский, Дмитрий Герасимов. Сергей Шуваев заметил (зарево пожара хорошо освещало улицы поселка) провода, тянувшиеся от одного из домов. «Узел связи»,— догадался он. Как кошка, скользну, под пулеметной очередью к зданию, резко размахнулся и, метнув в окно противотанковую гранату грозно закричал:
— Полундра!
Одним из первых в здание школы ворвался Леонид Егоров. Отважно и умело действовали пулеметчики Виктор Соколов, комсорг отряда Егор Гаврилов, командир группы Иван Федоров. Валентин Ершов выиграл дуэль с вражеским пулеметчиков засевшим на чердаке одного из домов. Владимир Петров вместе с Шуваевым уничтожили огневую точку на вышке. Она долго прижимала к земле наших бойцов. Теперь путь вперед был открыт. Заплатили мы за это дорогой ценой. Последняя очередь врага и упал смертельно раненный Петров.
Были убиты и ранены еще несколько человек. Когда бой переместился в парк, увидел Валю Бусову. Поднимается она с земли, все лицо в крови. Подбежал:
— Ранена?
— Нет,— отвечает.— Пыталась перевязать товарища, но ему уже не поможешь. Это его кровь.
Стоит и рыдает...
От ран, не приходя в сознание, умер отважны разведчик Юзеф Андрюшкевич. Володя Петров страшно мучился перед смертью. Валя Михайлова ни на минуту не отходила от него. Долго стоял у повозки с умирающим другом Сергей Шуваев. Впервые за всю войну по лицу этого волевого человека теш скупые мужские слезы.
К 6 часам утра стрельба стала утихать. Участь гарнизона была решена. Чтобы остыть, скинуть возбуждение от боя, я прошел к западной окраине поселка, прислонился к стволу большой сосны. По дороге к Сутокам наперегонки неслись десятки подвод. Вначале я не понял, откуда они взялись, потом усмехнулся — хозяйственники торопились за трофеями. Впереди на парной двуколке мчался мой заместитель по хозчасти Павел Миронович Миронов.
Трофеи достались нам большие: три исправных пулемета, винтовки, патроны, ящик мин, провиант (одного хлеба несколько тонн), обмундирование, много сапог. В партизанской походной жизни трофеи имели немалое значение.
Разгром гарнизона в Сутоках был заключительным аккордом операции «Савкинский мост». Полный успех при весьма незначительных потерях. Почему так получилось? Точное исполнение командирами отрядов и групп плана налета, бдительность на марше, внезапность — вот слагаемые, обеспечившие нам победу. И конечно, тщательная предварительная разведка, организованная нашим главным разведчиком Солдатовым и заместителями командиров отрядов по разведке Алексеем Васильевичем Андреевым, Александром Алексеевичем Черкасовым и Георгием Аркадьевичем Лапиным.
Штурм Суток получил высокую оценку командования. Начальник Центрального штаба партизанского движения П. К. Пономаренко писал в 1943 году в журнале «Большевик»:
«Такие операции, как операция украинских партизан, разгромивших Сарнский железнодорожный узел... взрыв Савкинского моста и разгром сутокского гарнизона, совершенные калининскими партизанами... войдут блестящими страницами в историю Отечественной войны».
Одна из наших групп подрывников (старший Александр Коваленко) устроила героям штурма Суток своеобразный салют. Ранним утром 14 апреля на участке железной дороги Зилупе — Себеж прогрохотали два взрыва. Коваленко и его товарищи подорвали «блиндированный поезд» противника. Он состоял из 13 платформ. На них были установлены пушка, пулеметы, стояли готовые к бою танки, лежали различные строительные материалы. Поезд этот нес охрану заситинского моста, шел впереди воинских эшелонов, обстреливал прилегающую к железной дороге местность, мог оказать помощь в восстановлении разрушенного пути. В результате взрывов партизанских мин под откос полетели две платформы с танками, паровоз и две платформы с минометными установками.
 | 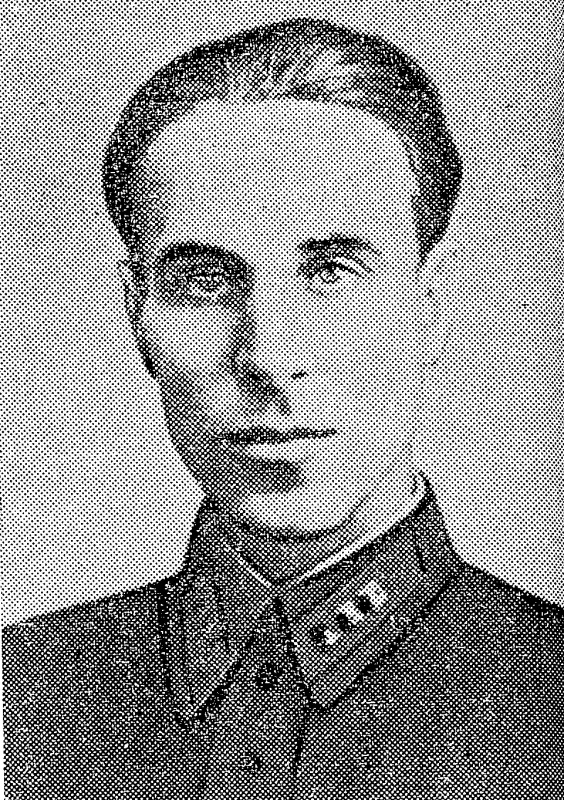 |
| В. Н. Михайлова - медсестра бригады | А. С. Кулеш - секретарь себежского подпольного райкома партии |
Весна обычно для партизан — трудное время, И все же апрель 1943 года для 10-й Калининской был добрым месяцем. Мы провели 11 боевых операций и весьма мало потеряли людей. Шаги наши были теперь твердыми. И пожалуй, лучшее тому свидетельство — повестка дня на объединенном заседании четырех подпольных райкомов партии. Решала вопрос о подготовке и проведении весенне-посевной кампании.
Заседание состоялось в конце апреля. На нем присутствовали первые секретари райкомов: Себежского — Андрей Семенович Кулеш, Опочецкого — Николай Васильевич Васильев, Красногородского — Алексей Алексеевич Козлов, а также комиссар 4-й бригады Владимир Николаевич Вакарин, комбриги Владимир Иванович Марго, Алексей Михайлович Гаврилов, Федор Тимофеевич Бойдин, автор этих строк в представитель штаба партизанского движения Алексей Иванович Штрахов. Председательствовал на заседании Кулеш.
Мы в первый раз собрались вместе все, хотя были друг с другом знакомы и очно и заочно. Самый молодой из нас — Федор Бойдин — был и самым молодым из калининских партизанских комбригов. Накануне войны он окончил артиллерийское училище. Командовал батареей в боях летом сорок первого года под Смоленском. Оказавшись на оккупированной территории, стал партизаном в отряде Федора Зылева. В двадцать один год принял под свое начало бригаду. Худощавый, высокий, неунывающий, улыбчивый, он быстро становился душой компании. По молодости был излишне горяч в суждениях, в боях же — решительным и волевым командиром.
Комбригу Марго было под тридцать, но выглядел он старше своих лет. Солидность ему придавала темная клинообразная бородка, с которой Владимир Иванович не расставался всю войну. Невысокий, плотный, и в разговоре и в движениях сугубо штатский человек. Добродушный, спокойный, и лишь настороженные, отливающие в минуты гнева сталью глаза говорили о недюжинной силе воли партизана — бывшего учителя.
Алексей Гаврилов был кадровым военным. Воевал с первых дней фашистского вторжения в нашу страну. Раненым попал в плен. Совершил смелый побег с группой красноармейцев. Во главе их перешел линию фронта. До командования бригадой ходил часто с отрядом с Большой земли в тыл врага. Я знал его и о его рейдах, находясь в прифронтовой зоне под Великими Луками.
Три комбрига. Разные, но главное — настоящие боевые товарищи. Мне легко было находить с ними контакты. Я всегда чувствовал их локоть.
Итак, впервые в условиях оккупации мы обсуждали задачу мирного времени. Весенний сев. Повеяло Дорогим, близким сердцу, вспомнились горячие посевные будни предвоенных лет. Конкретно были решены вопросы о семенах, о ремонте сельскохозяйственного инвентаря, о помощи крестьянам бойцами, об охране пахарей. Значительное место отводилось проведению разъяснительной работы среди населения. Помню, с какой настойчивостью и страстностью говорил об этом Андрей Семенович Кулеш:
— Люди земли истосковались по настоящей весенней страде. Где и сеют — сеют неохотно, зная, что почти весь урожай отберут оккупанты. Давайте придем в деревни и скажем крестьянам: «Не бойтесь. Сейте больше и лучше. Обещаем — не дадим про клятому фашисту пользоваться плодами вашего труда».
На заседании мы поделили зоны дислокации бригад. За нашей бригадой закреплялась территория, между реками Синяя и Исса вдоль границы с Латвией, на юге от железной дороги Себеж — Зилупе, далее на север — земли Красногородского района. Это, конечно, не означало, что мы должны были действовать только в вышеуказанном районе. Разграничение зон позволяло правильней решать продовольственную проблему, укреплять уверенность местных жителей в скором освобождении от оккупации. «Партизаны не уходят, партийное руководство в районе, значит, близок час изгнания врага», примерно так рассуждали теперь многие.
Шла речь на заседании и о приближавшемся международном празднике — 1 Мая. Наша бригада к этому времени почти удвоилась. Под ее знаменем сражалось 650 человек. Возвращаясь с заседания бюро подпольных райкомов, я предложил комиссар бригады:
— А что, Алексей Алексеевич, если мы пара своего войска организуем да на него жителей окрестных деревень пригласим?
— Дело говоришь, комбриг,— отозвался Козлов.
На том и порешили. Был составлен первомайский приказ. Текст его сохранился у меня. Перечитывая сегодня написанное нами тогда, конечно, понимаешь излишнюю многословность вводной части приказа. Но мы ведь не баловали людей в то время документами такого рода, а о многом хотелось рассказать. В приказе были такие пункты:
«2. Завтра, 1 мая, в 12 часов дня назначаю партизанский парад. Парад провести на поляне северо-западнее деревни Мыленки. На парад вывести все подразделения, свободные от выполнения боевых задач.
3. На парад пригласить гражданское население деревни Мыленки и окружающих деревень.
5. Моему заместителю по разведке товарищу Солдатову А. М. обеспечить глубокую разведку сил противника.
6. Секретарю партбюро бригады товарищу Романову П. Г., секретарю комитета комсомола бригады тов. Сауликовой М. Г., радистам бригады тов. Щекотихиной К. Н. и тов. Тетеревникову И. М. обеспечить прием информации из столицы нашей Родины Москвы о торжественном заседании, параде и первомайском приказе Верховного Главнокомандующего...
8. Комиссару отряда имени Жданова товарищу Волкову Н. А. произвести трехкратный салют из минометов в сторону озера Мыленское по установленному сигналу...»
И он состоялся, необыкновенный первомайский парад. Гол, неуютен был лес, но уже зацвели подснежники. С ними в руках на поляну пришли девушки. Собрались все жители деревни Мыленки и несколько десятков крестьян из близлежащих селений.
Улыбки. Радостные лица. Песни. Как в довоенное время. И это на оккупированной территории — в двадцати верстах от Себежа, где полным-полно солдат вермахта! Было от чего в конце дня бесноваться коменданту гарнизона полковнику Гофману и ищейкам тайной полевой полиции.
С оружием в руках, чеканя шаг, прошли перед командованием и собравшимся народом отряды народных мстителей. Шли герои дерзких засад, лихих налетов на фашистские гарнизоны, битвы на рельсах. Впереди были еще бои и бои, лишения, тяжелые походы, но все собравшиеся в тот Первомай на солнечной поляне верили: не за горами победа.
