Идем на запад
Человек борется тем, за что держится, во что верит, тем и бьет.
Михаил Пришвин
Дверь распахнулась, и вместе с клубами студеного воздуха в избу стремительно вошел комбриг. Снимая полушубок, спросил:
— О чем задумался, Николай Михайлович?
— Да так. Вроде бы и ни о чем,— ответил я.
— Не годится,— усмехнулся комбриг.— В новогоднюю ночь мечтать надо, не грех и пожелать чего- нибудь особенного.
— За желанием дело не станет. Оно имеется.
— Какое?
— Такое же, как и у тебя,— поскорее добраться до Синей.
— А ты угадал,— невесело ответил комбриг.
— Угадать легко. Спроси любого бойца — у всех одно в мыслях: скорей бы уж.
...Река Синяя. Совсем недавно попали мне на глаза строчки из стихотворения Владимира Туркина:
Может, воин шел с Чудо-озера,—
Речка взгляд его приморозила.
Дай ты силы мне, дай мне доблести,
Речка Синяя в Псковской области.
Вот к этой речке Синей и были обращены наши мысли в канун нового, 1942 года. Мы шли к ней и ночью и днем, добрых полмесяца. Только в отличие от воина с Чудо-озера двигались с противоположного направления. Пробирались глухими тропами. Пробивались сквозь снежные заслоны. Обходили крупные фашистские гарнизоны. 31 декабря остановились на отдых в лесной деревушке Себежского района, граничившего с Латвией.
Мы — это небольшая бригада калининских партизан с символическим названием «На запад». И район боевых действий был нам определен самый запад- ный в Калининской области — Красногородский, Бригаде предстояло «обжить» его, оседлать дороги, ведущие в Латвию и к стратегически важной коммуникации— Ленинградскому шоссе. В те дни войска Ленинградского и Волховского фронтов вместе с моряками Краснознаменного Балтийского флота готовили (мы тогда об этом, конечно, не знали) операцию «Искра». Главным результатом ее, как известно, стал прорыв блокады города Ленина, продолжавшийся почти 900 дней.
В этот успех внесли свой вклад и калининские партизаны. Они активизировали боевые действия, хотя и далеко от Ленинграда, зато у важнейших дорог к нему. Глухой осенью 1942 года в тылах фашистских армий группы «Север» рейдировал 1-й корпус калининских партизан. Он нанес удары по коммуникациям и гарнизонам врага и вызвал к жизни новые партизанские формирования. Тогда и родилась наша бригада.
Основание бригаде положила небольшая группа энергичных и мужественных людей под командованием старшего лейтенанта коммуниста Михаила Арсентьевича Лебедева. Смело появлялись они в населенных пунктах Идрицкого, Себежского и Невельского районов Калининской области, в белорусских деревнях. И везде находились добровольцы. Лебедев и его товарищи проводили и мобилизационную работу. Будучи уполномочены органами Советской власти, они призывали на военную службу тех, кто в силу различных обстоятельств не попал в Красную Армию в первые недели войны, а также выявляли красноармейцев, отбившихся от своих частей при выходе из окружения. «Выполняем функции райвоенкоматов»,— полушутя, полусерьезно говорил, Лебедев юному партизану-пулеметчику Вале Ершову, сопровождавшему его в таких походах.
В округе действовали каратели. В таких условиях уход в партизаны одного из членов семьи подвергал смертельной опасности всех оставшихся. И все же группа Лебедева медленно, но уверенно росла. У каждого, кто вливался в нее, был свой счет к оккупантам, у некоторых уже и боевая строка в партизанской биографии.
...Шестнадцать лет исполнилось Вале Бусовой в 1941 году. Росла Валя без матери. Училась в школе. Бойкая, смышленая, до любой работы охочая. Радовался Николай Иванович, глядя на дочь. Не без гордости говорил соседям: «А Валюшка моя — что те парень. Ко всему руки доходят».
Гордилась и Валя отцом — честным, трудолюбивым... И вот стоит она, прижав к себе маленького братишку, и страшной болью в сердце вонзается свист резиновых дубинок. Они градом сыплются на отца. «Где спрятано красноармейское оружие?» — кричит разъяренный гитлеровец... Смотрела Валя на отцовскую кровь, и в груди закипало неведомое раньше чувство. Имя ему было ненависть. Оно и определило дальнейшую жизнь девушки. Распространяла в родной деревне сброшенные с самолета советские листовки, ходила по заданию разведчиков рейдирующего корпуса в село, где стояли фашистские гарнизоны.
Вместе с подругой Зиной Плюсковой приняла Валя боевое крещение у озера Язно, где бойцы партизанского корпуса вели упорный бой с полевыми войсками гитлеровцев. Бусова и Плюскова стали первыми партизанками в формируемой бригаде.
У Вали и Зины — боевая строчка в биографии, а у Ерофея Федоровича Иванова — страница, да не одна. В рядах 445-го Себежского стрелкового полка воевал он против солдат германского кайзера в первую мировую войну. Командуя взводом в частях Красной Армии, сражался против полчищ Колчака. Попал в плен. Бежал из-под расстрела. Партизанил в лесах под Иркутском.
Не думал Ерофей Федорович, завершая пятый десяток жизни, что опять придется брать в руки оружие, но, когда гитлеровцы появились вблизи деревни Комлево, где жила его семья, припрятал брошенную кем-то винтовку. Цену оружия пожилой прораб Идрицкого леспромхоза хорошо знал. В мае 1942 года он стал бойцом в группе местных партизан, организованной командиром Красной Армии Родионом Охотиным, а в октябре перешел в бригаду «На запад».
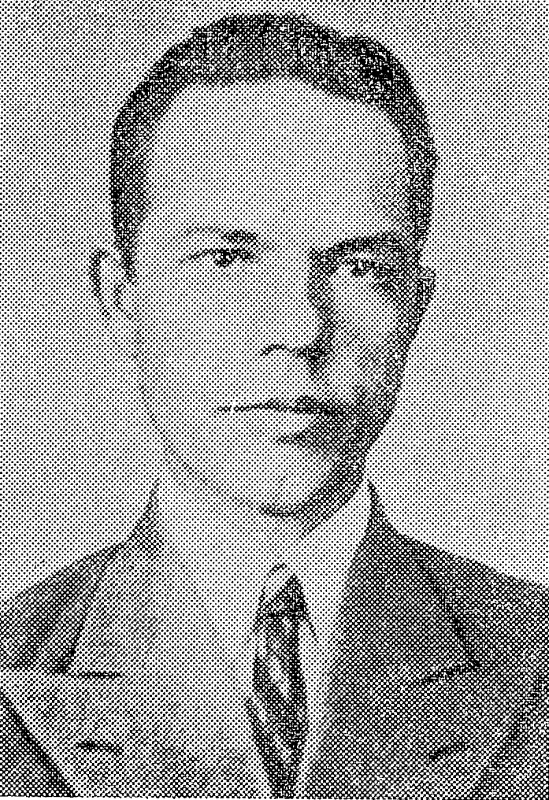 |  |
М. А. Лебедев - командир 10-й партизанской бригады в первые месяцы ее боевых действий | А. А. Козлов - комиссар бригады до августа 1943 года |
Когда народу поднабралось порядком, Лебедев повел людей в советский тыл на вооружение. То был поход-подвиг. На три с лишним сотни человек один ручной пулемет, два автомата да двадцать винтовок. А путь не малый, и кругом враги.
Линию фронта перешли незаметно. Фашисты обнаружили партизан, когда хвост колонны уже втягивался в лес нейтральной зоны. Огонь открыли неистовый, но беспорядочный. Потерь бригада не понесла и вскоре остановилась в деревне Лопаткино Урицкого сельсовета Великолукского района. Здесь и скрестились наши пути.
В конце 1942 года советские войска под Великими Луками прочно удерживали в своих руках боевую инициативу. Со дня на день ожидался последний бой за освобождение древнего русского города на Ловати. С ним у меня было связано многое, да почти и все главное в прожитые 32 года.
В Куньинском районе, невдалеке от Великих Лук, был мой отчий дом (отец Михаил Парфенович погиб на фронте в первую мировую войну) — деревушка Змеенки. В великолукском депо овладел я рабочей профессией — стал слесарем. Отслужив пять лет в армии, вернулся на берега Ловати. Последнее время работал в военном отделе горкома ВКП(б). Когда летом сорок первого года на подступах к городу разгорелось многодневное сражение, командовал истребительным батальоном. После вторжения фашистов в Великие Луки был командиром отделения разведки в городском партизанском отряде.
Вторая военная осень застала меня в прифронтовой зоне, где я выполнял отдельные задания областного комитета партии. Незадолго до октябрьских праздников раздался телефонный звонок — мне было приказано явиться в Калинин к секретарю обкома ВКП(б) П. С. Воронцову. Кто-то из товарищей пошутил:
— Получишь назначение в Великие Луки, не забудь и про нас, грешных.
— Куда иголка — туда и нитка,— отшутился я.
Воронцов принял меня поздно вечером. Поднявшись из-за стола, заваленного ворохом бумаг, спросил:
— Чем занимался последнее время, товарищ Вараксов?
С Воронцовым я разговаривал впервые. Ответил официально:
— Организовывал подвоз фуража нашим войскам под Великими Луками.
— Под Великими Луками,—не то переспросил, не то повторил Воронцов.
— Так точно. Под Великими Луками.
— Ишь ты. Научился по-военному рапортовать,— Воронцов улыбнулся.— Фашистов из твоих Великих Лук скоро попрут. А дальше? Сколько за Луками нашей калининской земли — знаешь? — Не дав мне ответить на вопрос, сердито бросил: — Десять районов — вот сколько. И вряд ли их освободят от оккупации сразу. Воевать и воевать там надо. Ясно?
— Так точно.
— Да брось ты свое «так точно». Не в штабе армии находишься. Садись.— Голос секретаря обкома звучал теперь глуховато, чувствовалось по всему — человек очень устал. Немного помедлив, он продолжил разговор:
— В ближайшее время в самый отдаленный район уйдет новая партизанская бригада. В ее составе будет находиться Красногородский райком партии. Бригада формировалась в немецком тылу. Будем ее вооружать и укреплять кадрами. Есть решение назначить тебя заместителем комбрига и членом райкома. Войну ты знаешь не понаслышке, да и с партработой знаком.
Я поблагодарил за доверие. Воронцов познакомил меня вкратце с положением в оккупированных западных районах области, сказал доброе слово в адрес комбрига Лебедева и комиссара бригады Алексея Алексеевича Козлова. Выразил сожаление, что не удалось подобрать в руководящее ядро бригады местных товарищей, кроме члена подпольного райкома Анастасии Васильевны Павловой. Последняя до войны работала председателем Мозулевского сельсовета Красногородского района, была депутатом Калининского областного Совета депутатов трудящихся.
Позже я убедился, как был прав секретарь обкома. Рядом с нами у латвийской границы действовала партизанская бригада под командованием Владимира Марго. Добрая половина ее командиров и политработников состояла из местных товарищей. Это обстоятельство облегчало решение многих вопросов в подготовке боевых операций и организации партизанского быта.
В Лопаткино я прибыл на следующий день после прихода туда бригады. Деревня небольшая —- дворов двадцать. Окрест лесисто-болотистая местность. Невдалеке фронт. Изредка доносится глухой артиллерийский гул. К нему здесь привыкли. Накануне выпал снег —нежно похрустывает под ногами.
Шел я в добром настроении. Оно не изменилось и после знакомства с комбригом. Михаил Арсентьевич встретил меня приветливо. Немного расспросил про довоенную жизнь и, что особо было приятно, про участие в боях за Великие Луки в сорок первом... Четвертое десятилетие мы живем под мирным небом. И все еще есть не до конца раскрытые подвиги, не полностью заполненные страницы летописи Великой Отечественной. Одна из них — бои на берегах Ловати. Целый месяц, выбив фашистов из Великих Лук, красноармейцы и великолучане удерживали город и рубежи вокруг его в своих руках. Целый месяц! И это в дни, когда на дальних подступах к Москве разгоралось сражение исключительной важности — Смоленское...
С комиссаром бригады Алексеем Алексеевичем Козловым я познакомился немного позднее. Худощавый, выше среднего роста, брюнет, очень подвижный, лет на пять старше нас с комбригом. Типичный довоенный секретарь райкома партии (он и был таковым), человек, не служивший в армии, но умеющий быстро оценивать боевую ситуацию и принимать, коль того требует обстановка, самостоятельное решение.
В первых же встречах, в ночных беседах, при организации учебы вверенного нам личного состава мы трое нашли быстро общий язык. Деловые и товарищеские отношения сохранили и в дальнейшем, что бесспорно положительно сказалось на боеспособности бригады. Кроме командира и комиссара нашей бригады в подпольный райком партии входили Анастасия Васильевна Павлова и Павел Гаврилович Романов, возглавивший нашу партийную организацию. В дни советско-финляндской войны Романов был политруком роты, участвовал в боях. Накануне Великой Отечественной работал в одном из райкомов партии.
Более месяца провели мы в прифронтовой зоне. Шло переформирование. Часть бойцов пришлось по состоянию здоровья отчислить. С остальными партизанами ежедневно проводились занятия. Изучали отечественное и трофейное оружие, подрывное дело, тактику партизанских действий. Учебой руководили специалисты из 3-й ударной армии. Были и свои доморощенные учителя. Так, одну из групп стрельбе из пулемета обучал... шестнадцатилетний партизан Валентин Ершов. Стрелял он превосходно, а вот материальную часть оружия знал довольно относительно. Пришел однажды проверяющий — капитан из штаба полка. Начали ребята пулемет разбирать. Проверяющий показал на боевые выступы затвора, спрашивает: «Как называется эта часть?» В ответ единодушное: «Щечки». «Кто обучал вас?»—поинтересовался капитан. Все посмотрели на Ершова.
Посмотрел на парнишку и проверяющий. Пожал плечами и предложил: «Ну что ж, пойдемте стрелять». А стреляли все хорошо. Остался доволен капитан, пожелал, уходя со стрельбища: «Стреляйте так же метко и по фашистам». Забегая вперед, скажу: пулеметчики бригады не раз выручали нас в боях с противником, превышающим наши отряды в силе.
Отсеивая часть людей, мы одновременно пополняли бригаду. Хороших бойцов получили из спецшкол. Не поскупилось на опытных командиров армейское командование. Назову две фамилии — Сауликова и Солдатов. Думаю, что любой из ныне здравствующих моих боевых товарищей согласится с их характеристикой: достойнейшие из достойных.
Семья Сауликовых в Рамешках получила две похоронных, когда восемнадцатилетняя Маша сообщила матери о вызове в спецшколу ЦК ВЛКСМ, В столицу Машу провожали всей деревней... После четырехмесячной подготовки Сауликова была направлена в тыл врага. Жизнерадостная, на редкость энергичная девушка стала в бригаде комсомольским вожаком, впоследствии первым секретарем подпольного Красногородского райкома комсомола. Личная храбрость, общительность, умение горячо и толково выступать перед народом снискали Фаине (это было конспиративное имя Сауликовой) общее признание. К ней тянулись. С нею советовались.
 |  |
| М. Г. Сауликова (Авдохина) - первый секретарь подпольного райкома ВЛКСМ | М. Н. Михайлова (Веселова) - партизанка-подрывница |
Старшему лейтенанту коммунисту Александру Михайловичу Солдатову было под тридцать. На фронте он командовал разведывательной ротой и вдоволь наползался в боевых порядках войскового тыла врага [1]. Жила в нем неуемная жажда выведать, узнать любую мелочь, самую малую деталь о противнике. Ревностно обучал искусству разведки старший лейтенант и своих подопечных — «будущих орлов», по его определению. И они оправдали надежды. Это, бесспорно, в первую очередь их заслуга, что бригада наша ни разу не была захвачена карателями врасплох, в какие бы переплеты ни попадала.
Солдатову, как заместителю комбрига по разведке, и было поручено найти более-менее безопасный проход через линию фронта, когда поступил приказ о перебазировании бригады к берегам Синей. Обнаружить такое место в те дни считалось делом маловероятным. Фашисты плотно закрыли на нашем участке фронта свой передний край. Попытки миновать его без боя не удавались.
Всю первую половину декабря Солдатов со своим помощником балтийским моряком Сергеем Шуваевым разведывали нейтральную полосу, дважды побывали в тылу врага. Вернувшись из третьей такой вылазки, наш старший разведчик доложил:
— Пойдем по льду озера Сенница.
— На берегах фашистские гарнизоны. На льду, что в поле, не укроешься. Ты это учел? — спросил комиссар бригады.
— Да. Но вот уже два дня оттепель. На льду полно воды. Гитлеровцам и в голову не придет, что можно перейти озеро в таких условиях.
— Рискованно,— заметил я.
— Согласен. Но иного пути сейчас нет.
— Ну что ж, на нет и суда нет. Пойдем через Сенницу,— решил комбриг.
В ночь с 15 на 16 декабря 1942 года 358 вооруженных человек с большим грузом за плечами приблизились к Сеннице. Озеро зловеще темнело. Справа где-то отрывисто стучал пулемет. Первыми ступили на лед, покрытый водой, Солдатов, Шуваев и еще несколько разведчиков. Штаб бригады шел в центре. Я в замыкающей группе.
Никогда не забудется эта ночь! Двигались гуськом, молча, без команд. Замирали, когда в небе растекался дрожащий свет ракет и вслед им пронзала мглистый воздух трасса пуль. А студеная вода просачивалась в обувь. Многие падали, и тогда нательное белье превращалось в ледяной компресс.
Сенница не такое большое озеро, но тогда казалось, шли мы целую вечность. Моим грузом были: автомат, 300 патронов, пистолет, сухари, белье. И был я, что называется, в полном расцвете сил. А устал смертельно. Как же досталось товарищам постарше годами, и особенно нашим девушкам!
К 30-летию Победы я получил письмо от Марии Николаевны Михайловой (Веселовой). Маша пришла в бригаду из спецшколы. Веселая девушка, лучшая наша певунья и плясунья, стала в тылу врага лихой подрывницей. Вспоминая переход через Сенницу, она пишет:
«Ноги мои превратились в ледышки. Вскоре я ступала в воду и не чувствовала их. И ничего я тогда не желала, как услышать слово «привал». А услышали мы его лишь тогда, когда отошли от озера на несколько километров. Чтобы разуться, пришлось с обуви скалывать лед. Не верится, что это все было...»
Начальник гарнизона деревни Поровницы, расположенной на берегу озера, узнав позже о нашем переходе, приказал расстрелять часовых. На льду Сенницы были поставлены огромные бочки, в которых укрывались пулеметчики,— своеобразная засада.
Такова одиссея бригады «На запад» до 1943 года, до того новогоднего вечера, с которого я начал свое повествование. В тот вечер, а точнее в ночь, я уговорил Михаила Арсентьевича вздремнуть (он еле держался на ногах), а сам пошел проверить посты и посмотреть, как отдыхают бойцы.
Спали люди мертвецки, но даже тихий разговор с дежурным поднимал на ноги многих. За дни тяжелого похода у бойцов выработалась мгновенная реакция на малейший шум и голоса в ночи. Охрана была бдительной, и я через час уже шагал обратно к штабной избе.
Ночь выдалась звездная, морозная. Настоящая новогодняя. Невольно мысли перенесли меня в прошлое, и я лишний раз убедился, как верно изречение: «Ничто не смеется так весело и не хмурится так грустно, как поток воспоминаний».
Вспомнился один из весенних вечеров 1931 года. Ловать несла бурные вешние воды. Я с двумя приятелями из депо шел по ее берегу навстречу ветру. Устали здорово — весь день провели на комсомольском воскреснике. Настроение же было радостное, майское. Мне, девятнадцатилетнему рабочему пареньку, присвоили накануне звание ударника первой пятилетки. Сердце пело, казалось все по плечу.
А рядом из кладовой памяти встало другое... 17 июля 1941 года. Последние часы эвакуации из Великих Лук. Проезжая по одной из улиц, встретил группу бойцов военизированной охраны городской радиостанции. Смотрю — брат Сашка. Обнялись крепко. Спрашиваю: «Куда ты теперь?» Отвечает удивленно: «Как куда? В армию, конечно». Грустное было расставание, но я понимал Александра. Вараксовым, как и сотням тысяч других рабочих и крестьянских семей, можно было лишиться многого, но только не родной Советской власти. А ее судьба решалась на фронте... [2]
Я бы еще, очевидно, долго стоял у крыльца, погруженный в воспоминания, если бы не слова, раздавшиеся сзади:
— Иди поспи немного. Через два часа снова в путь.
Вздрогнув, я оглянулся — Алексей Алексеевич тоже бодрствовал...
Еще трое суток — и трехсоткилометровый поход завершен. Мы в деревне Ровново Красногородского района. Не успели еще как следует разместиться, а у дверей штаба уже появилось несколько крестьян почтенного возраста. Стоят, с ноги на ногу переминаются, посматривают на автомат часового. Мы с Козловым вышли на улицу, пригласили всех в дом. Обменялись рукопожатиями, друг друга табачком угостили. Забористый у крестьян табачок был... А вот разговор деловой не получался. И тут вдруг в дверях показалась Павлова. Гости наши все встали, а Анастасия Васильевна (как будто и не было полутора лет оккупации) спокойно и деловито сказала:
— Садитесь, товарищи. Давайте поговорим о наших задачах. В нашем сельсовете...
Многое тот разговор нам подсказал. И где оружие достать можно, и где находятся крупные вражеские гарнизоны. А о тех, кто в холуи фашистские пошел, было сказано гневное слово. Узнали мы, что в отли чие от других районов в междуречье гитлеровцы создали крупные государственные имения: Синьозерское, Лямони, Богородицкое, Федоровское, Грайненское и Станкеевское. Под имения отведены лучшие земли. Заправляет хозяйствами обер-лейтенант Иогансон, типичный пруссак.
А люди в штаб все подходят и подходят. Обращаясь к комбригу, докладывают:
— Артем Порозов. Из деревни Репшино. Кузнец. Может, сгожусь на что.
— Я — Прокофьев. Воевал в гражданскую. До войны участковым был. Местность хорошо знаю.
А вот вошли двое. По всему видно: отец и сын. Старший спокойно рассказывает: фамилия Зубков, по профессии агроном, участник гражданской войны. Младший выглядит лихо: на голове буденовка, на ремне четыре гранаты, на ногах армейские кирзовые сапоги, на правом плече тускло отливает новенький немецкий автомат. Четко докладывает:
— Товарищ командир бригады, прибыл в ваше распоряжение командир группы самообороны деревни Машнево Юрий Зубков! — И, сверкнув улыбкой, добавляет: — Нас двенадцать таких, как я.
Посмеивается Павлова. Шепчет Лебедеву и мне:
— Это только принято тут чуток прибедняться по присказке: «Город наш Красный, река Синяя, люди мы тихие — раков боимся». Начнем здесь воевать — они покажут фашистам, где раки зимуют.
Душевно приняли нас жители деревень Ровново, Церковка, Лубьево, Машнево и Брод, где разместились отряды после последнего перехода: задымили бани, крестьянки начали стирку и починку партизанского белья, заработали местные «обувных дел мастера». А вечером во многих избах зазвучали советские песни, раздались звуки гармошек. Молодость — всегда молодость. В центре веселья Вера Ганюшкина, Лазарь Минченко, Виктор Михеенко, Иван Авдохин, Мария Климентьева.
Ко мне то и дело подходят начальники штабов отрядов, ответственные за охрану, смущенно, как бы жалуясь на свою беспомощность, заявляют:
— Не расходятся. Все поют еще. Что делать?
— Ну и пусть поют,— отвечаю.— Истосковались люди по нашей советской жизни. А делать что, небось лучше меня знаете: усилить охранение.
На исходе ночи разведчики уже принесли первые сведения о противнике. Через полчаса Солдатов докладывал комбригу и комиссару:
— Наиболее подходящий маршрут движения бригады в глубь района лежит, на мой взгляд, между гарнизонами гитлеровцев, расположенными в деревнях Луги, Столбово и Мозули, затем южнее деревни Дымово. По льду перейдем реку Синюю и далее двинемся на север вдоль границы с Латвией — к деревням Александрово, Малашно, Масловка. На пути нашем имение Синьозерье, в деревне Александрово—волостное управление. Разведкой установлено: 7 января в имении по случаю рождества предполагается пирушка, 8 января управа Александровской волости собирает старост деревень.
— Вот и наведаемся и в Синьозерье, и в Александрово,— предложил Козлов.— Нежданными гостями на бал.
— Бал так бал, — поддержал я комиссара.
— Решено,— сказал комбриг.
Мы вышли на улицу. Занимался рассвет. Заря была не яркой, подернутой какими-то дымными полосами. И все же она упорно теснила темень зимней ночи.
[1] Войсковой тыл (иначе тактический) — тыл частей и соединений армии.
[2] Вараксов Александр Михайлович погиб в феврале 1942 года на Ленинградском фронте.
