Междуречье в огне
Между городами Остров и Опочка Ленинградское шоссе пересекает река Исса. Параллельно ей несет свои воды по русским и латышским землям река Синяя (Зилупе). Междуречье — живописный район северо-запада нашей страны. Здесь в летнее время отдыхают тысячи ленинградцев. В лесах аукаются грибники. Осенью на берегах рек часто слышен голос охотничьих рожков.
В начале января сорок третьего междуречье тонуло в глубоких снегах. Зловещая тишина повисла в его деревнях. Район был далек от фронта, но фашистские гарнизоны стояли во всех крупных населенных пунктах. В достаточном количестве охранные войска имелись и в самом райцентре. Подразделения вермахта постоянно находились в Опочке, расположенной в 30 километрах от Красногородска на магистральном шоссе.
Оккупационные власти, фуражиры воинских частей чувствовали себя здесь весьма уверенно. Распоясались и фашистские прихвостни бургомистр Горицкий, начальник полиции порядка (ОД) Васильев, старший полицай Мочалов, — бывшие кулаки и уголовники, охотно предложившие свои услуги гитлеровцам.
Было бы неверным утверждать, что до прихода нашей бригады в междуречье местное население смирилось с жестоким оккупационным режимом. На территории края не действовали отряды партизан, но борьбу партизанскими методами советские патриоты вели. И группами и в одиночку. Одна из таких групп—«Восьмерка»—влилась в нашу бригаду.
У каждого из ее членов (они впервые собрались вместе 1 мая 1942 года в лесу вблизи деревни Астицы) была к этому времени своя военная судьба, и, за исключением двоих, все знали почем фунт лиха. Председатель колхоза «Заря — Восход» Степан Андреевич Андреев, лесник Иван Федорович Федоров, колхозник Егор Петрович Самоучкин бежали из концлагеря. А лейтенант-артиллерист Алексей Васильевич Андреев, выйдя из окружения на оккупированную территорию, прошагал по ней более двух тысяч километров. Что испытал он, пробираясь домой с оружием в руках, мерзлый и голодный, известно, как говорится, одному богу. Однако на вопрос обрадованной и испуганной матери: «Что ж будет теперь, сынок, власть-то кругом фашистская?» — комсомолец ответил: «Какая к черту власть! Зловластие это, и с ним будем бороться».
Еще более сложный и тернистый путь был у коммуниста младшего лейтенанта Василия Михайловича Орехова из деревни Ершово. Предатель выдал его, и Орехов попал в руки начальника отделения СД в Опочке капитана Крезера. Матерый контрразведчик пытался склонить патриота к предательству, но тот плюнул в лицо фашисту. Через несколько дней Орехова и еще семь человек повезли на расстрел к противотанковому рву. Расстреливали два гитлеровца, последними к обрыву подвели Орехова и Василия Григорьева. Один из палачей стал перезаряжать пистолет, другой закуривать. И этим воспользовались патриоты. Орехов в прыжке ударил гитлеровца головой в подбородок. Григорьев бросился под ноги второму палачу, и тот выронил пистолет. Со связанными руками бегом к лесу. Фашисты открыли огонь, ранили обоих, но догнать не смогли.
Однако на этом испытания для Орехова не кончились. Гитлеровцы упорно его искали. Однажды настигли. Пустили по следу двух овчарок. Василий Михайлович застрелил собак и весь в рваных ранах скрылся от преследователей.
Два других члена «Восьмерки» — Василий Васильевич Королев и Михаил Иванович Гильков — вскоре ушли к линии фронта с целью перейти ее. Их заменили Николай и Семен Андреевы — брат Алексея Васильевича и сын Степана Андреевича Андреевых. Николаю в те дни исполнилось 17 лет, Семену — 14, но смелости ребятам было не занимать.
Командовал «Восьмеркой» Алексей Андреев. Группа сразу же начала активные действия. На шоссе Мозули — Красногородск смельчаки спиливали телефонные столбы, разбирали мосты. Около деревни Тряпичино подорвали гранатами и сожгли две автомашины. Была сделана засада на главаря полицаев Васильева. Несколько предателей удалось уничтожить, но Васильев избежал заслуженной кары.
«Восьмерку» поддерживало население, и она стала неуловимой. Неистовую злобу на первых партизан на берегах Синей фашисты выместили на их родных и помощниках. Были арестованы и после истязаний на допросах расстреляны 5 сентября 1942 года мать командира «Восьмерки» Татьяна Тарасовна Тарасова, жена Степана Андреева — Ульяна Егоровна, Анна Михайловна Федорова — жена Ивана Федоровича Федорова, мать Самоучкина— Варвара Терентьевна Терентьева. Вместе с ними от рук палачей погибли Евгения Павловна Лисовицкая, учительница-комсомолка, снабжавшая «Восьмерку» разведывательной информацией, ее отец Павел Алексеевич Алексеев — животновод колхоза «Заря — Восход» и Михаил Максимович Максимов, помогавшие группе оружием и боеприпасами.
До 7 ноября «Восьмерка» совершала небольшие диверсии в междуречье, затем некоторое время действовала в Себежском районе в составе одного из отрядов бригады Марго. Когда эти смелые люди пришли в нашу бригаду, рассказывали про себя скупо. Лейтенант Андреев попросил лишь об одном комбрига:
— Пустите скорее в дело. Вы человек военный и хорошо понимаете: любой рассказ незнакомца на войне проверяется в бою.
Мы были уже тогда немного наслышаны о группе, и командование бригады доверило Андрееву и его товарищам боевые посты в соединении. Командир «Восьмерки» был назначен заместителем командира отряда, Орехов принял под свое начало взвод разведки, Федоров — группу. Николай Андреев стал разведчиком, Самоучкин и самый юный из смельчаков Сеня Андреев — ординарцами комбрига и комиссара бригады. Сергеева направили в спецотряд, а Степану Андреевичу Андрееву (ему уже было под пятьдесят) предложили «должность» мастера по ремонту оружия.
И еще об одном человеке гордой отваги и неукротимой ненависти к врагу хочется рассказать. Я не знал его лично — он погиб до нашего прихода на берега Синей, но о нем шла людская молва. Петр Самойлов, первый секретарь Красногородского райкома комсомола, на собственный риск и страх остался в районе. Молодой коммунист, прошедший боевую закалку в армии, сердцем и разумом понял значение призыва И. В. Сталина в речи 3 июля 1941 года к всенародной борьбе в тылу врага и немедля приступил к ее организации.
История комсомольского подполья в Красногородске до сих пор малоизвестная героическая страница минувшей войны. Раскрыть ее — дело чести комсомола Псковщины. Совсем недавно я получил письмо от Николая Герасимовича Анисимова. Он хорошо помнит Петра Самойлова. Комсомолец Анисимов в первые месяцы войны выполнял задания Самойлова, укрывал его в своем доме, позже ушел в спецотряд.
Ищейки тайной полевой полиции (ГФП), соглядатаи из фашистских прихвостней охотились за комсомольским секретарем, как за диким зверем: устраивали засады, налеты на деревни, подсылали провокаторов. Был такой случай. Гитлеровцы окружили дом, где, по их данным, ночевал Самойлов. Начался обыск. Он продолжался несколько часов. Все это время Петр находился в... колодце, по горло в воде, сжимая в руке браунинг.
Помнят героя и Антонина Матвеевна Самойлова и Александра Афанасьевна Шубина, проживающие ныне в Псковской области. До войны учительница- комсомолка, Антонина Матвеевна в дни оккупации Красногородского района стала связной в одном из отрядов калининских партизан, позже медицинским работником в 4-й ленинградской партизанской бригаде. Александра Афанасьевна помогала спецгруппе майора Чугунова.
Трагический случай оборвал весной 1942 года жизнь Петра Степановича Самойлова. В ту пору он с небольшой группой смельчаков действовал в Себежском районе.
Нет. Мы пришли не на голое место. У нас были предшественники — самоотверженные, мужественные. Ведь не случайно в первые же часы нашего пребывания в деревнях Красногородского района к нам потянулись десятки людей, горя желанием сражаться с оружием в руках против немецко-фашистских захватчиков. Наша бригада была, конечно, значительной силой, но без поддержки народа вряд ли мы долго продержались бы. Для тех, кто воевал, это — аксиома. И все же повторять ее следует.
 | 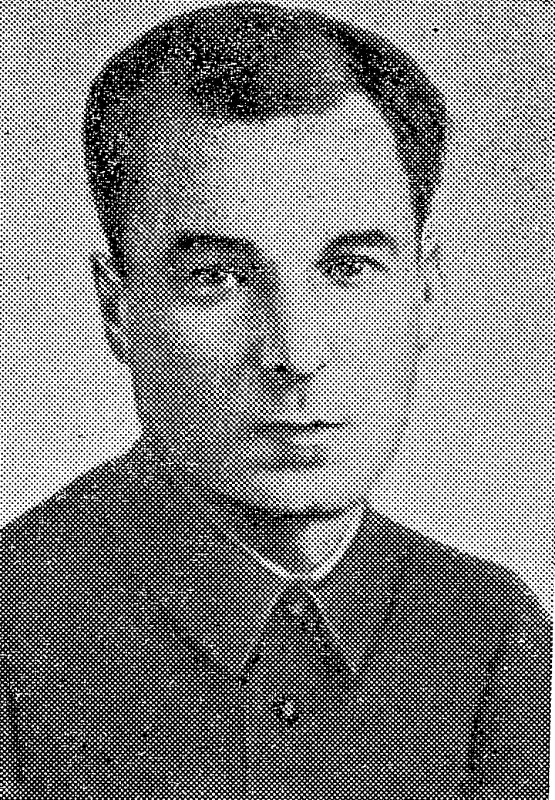 |
| А. В. Андреев - заместитель командира отряда | И. В. Жуков- командир отряда |
10-я Калининская состояла из четырех отрядов, которые носили названия: «Смерть оккупантам», имени А. А- Жданова, имени С. М. Кирова и «25 лет Октября». Командирами и комиссарами отрядов соответственно были: Иван Павлович Рожко и Василий Степанович Антипов, Илья Владимирович Жуков и Николай Александрович Волков, Петр Захарович Поздняков (позже Василий Николаевич Коробков) и Василий Андреевич Федоров, Иван Николаевич Ветковский и Иван Васильевич Федоров (позже Петр Павлович Макаров). Отряды имели по три боевых группы (взвода), свою разведку, хозяйственное отделение, медицинский персонал. Такая структура позволяла в случае необходимости действовать отрядам самостоятельно длительное время.
Штаб бригады поначалу возглавлял Захар Леонтьевич Дорош. В сентябре 1943 года его для пользы дела пришлось заменить Владимиром Александровичем Авдохиным. При штабе имелись взвод бригадной разведки, две подрывные группы, связные, санитарная часть (главный врач — хирург Валентина Павловна Щелкунова), хозчасть, взвод охраны, два радиста, писарь.
Среди командного состава бригады было немало кадровых военных и, что особо важно, некоторые из них имели фронтовой опыт.
Так, лейтенанты Рожко и Поздняков служили в армии с 1937 года, а Жуков хотя и отдал многие годы жизни социалистическому строительству в городе и деревне, тоже «нюхал порох» — участвовал в советско-финляндской войне, был награжден медалью «За боевые заслуги».
И если Рожко и Поздняков и в партизанах не забывали, что они профессиональные военные и вопросы решали по-фронтовому, немедля, подчас с бесшабашной смелостью, то Ветковский, в свою очередь, помнил всегда, что до войны он был председателем сельсовета, и прежде всего ценил продуманность решений, смелость, подкрепленную расчетом. От него часто в бою можно было услышать:
— На рожон не лезь! Выжди команды и тогда пошел.
Из командиров отрядов Иван Николаевич по возрасту был старшим. Чувствовался в нем русский крестьянин. Война для него была работой.

И. Н. Ветковский - командир отряда
В способности наших командиров отрядов грамотно в военном отношении, решительно и смело руководить боевыми операциями меня убедил наш первый рейд по району. Он начался с двух небольших столкновений с гитлеровцами. Разведчики, возглавляемые А. А. Черкасовым и В. А. Козловым, натолкнувшись в районе деревень Пески и Ключки на фуражиров какой-то немецкой части, атаковали их с ходу. Были взяты первые пленные и первые трофеи. В числе их несколько автоматов. Бойцы радовались — с автоматическим оружием у нас было не густо. А точнее плохо —18 автоматов на четыре сотни партизан. Правда, столько же пулеметов.
Вторая встреча с врагом произошла 7 января 1943 года. В этот день около пятидесяти фашистов направились к деревне Ровново. Группы партизан, руководимые К. К. Сентеревым и Г. И. Рыбкиным, навязали бой противнику и вынудили его к бегству.
Константин Калинович Сентерев работал до войны шофером в Идрице. В бригаду пришел в октябре сорок второго. В отряде знали о трехлетней ревностной службе Сентерева в рядах армии, и командир всегда его называл сержантом.
Вечером этого же дня бригада в полном составе двинулась в путь. Штаб шел с отрядом «Смерть оккупантам», который на рассвете 8 января должен был окружить деревню Александрово. Отряд «25 лет Октября» имел задачу перекрыть дорогу на Александрово от деревни Кунглово, где размещалась воинская часть гитлеровцев. «Рождественский визит» в Синьозерье комбриг приказал нанести отряду имени Жданова. Наиболее трудное задание выпало на долю отряда имени Кирова, который находился в арьергарде. Бойцы его должны были взорвать 40-метровый мост через Синюю на шоссе Мозули — Опочка.
Отряды точно выполнили приказ. Около полуночи синьозерские господа уже не подымали бокалы, а, съежившись, будто усохшие, ожидали решения своей участи. Их гости — полицаи были еще раньше встречены пулеметным огнем. В имении партизаны уничтожили два склада (в одном из них находилось более 100 тонн сена), тракторы, сельскохозяйственный инвентарь. В наши руки попали различные документы оккупационных властей, касса. В скотных дворах стояло 60 коров, 20 лошадей, много овец и свиней.
— Хлеб, скот раздать населению,— распорядился комиссар бригады.
— Господ расстрелять,— приказал комбриг. — А вы все,— обратился он к столпившимся у здания рабочим имения,— марш по домам!
Без особого труда заняли мы и Александрово. Комбриг, осмотрев здание волостной управы, сказал мне:
— Придется тебе, Николай Михайлович, взять на себя функции начальника особого отдела. Накроем старост, когда они начнут прибывать на сбор в управу. Разберись с каждым. Думается, не все они, подобно синьозерским хозяевам, враги.
— Разберемся,— ответил я.— Кто подлец первостепенный, подскажут местные товарищи.
В партизанских формированиях Калининской области, в отличие от ленинградских бригад, не было особых отделов. Не берусь и сейчас, спустя много лет, судить о правильности того или другого решения данного вопроса. У нас функции особистов часто выполняли командиры разведки. Иногда мы передавали вражеских агентов и документы командирам спецгрупп.
Вскоре в деревню один за другим стали приезжать ничего не ведавшие деревенские старосты. Их довольно невежливо встречали наши бойцы и доставляли в «особый отдел». Вместе со мной следствие вели заместитель комиссара бригады II. Г. Романов, комиссар отряда Н. А. Волков и лейтенант А. В. Андреев.
33 деревни — 33 старосты. Отщепенцев, чьими поступками двигали недовольство Советской властью, корысть, желание обогатиться, было немного. Большинство — люди, проявившие малодушие в трудный час.
Трус, не запятнавший себя кровью односельчан и предательством, может еще искупить свою вину, лишать его жизни не стоит. Так рассуждали мы — «следователи». Так решил и открытый партизанский суд. Восемь старост были приговорены к расстрелу, а двадцать пять, получив предупреждение (некоторые и наши задания), были отпущены по домам.
Помнится, подошли мы с Андреевым после суда к группе местных жителей. Алексей Васильевич спросил:
— Ну как, товарищи, верен наш приговор?
В ответ раздалось несколько голосов:
— Судили по закону и по совести.
— Поступили верно.
— Каждому по заслугам.
— Прижмут теперь хвост другие подлецы.
Удалась и диверсия на реке. Вначале команда отряда Поздняков думал взорвать мост в ходе боя овладев зареченской частью деревни Мозули. Е противник оказал упорное сопротивление. Тогда Поздняков приказал командирам подрывных групп Николаю Павлюченко и Владимиру Золотареву погрузить тол на лыжи (два заряда по 25 килограммов), подползти к мосту, заложить мины под его опоры с двух сторон.
Оба командира групп — ребята отчаянные. Павлюченко —18 лет, Золотарев на год моложе. Комсомольцы. Володя — москвич, Николай —- из Идрицкого района. Молоды, но не зелены, обучались подрывному делу в спецшколе. Оба, получив задание ответили по-флотски:
— Есть!
Вскоре раздалось два сильных взрыва.
Все дни—8 и 9 января — усиленно трудились наши политработники. По несколько раз в день выступали Романов, Павлова, Сауликова и другие коммунисты и комсомольцы. Беседовали на сходках в деревнях, в хатах —в крестьянских семьях. О том, что фашистам крепко досталось под Москвой, слухи сюда просочились. А вот о выходе нашей армии на рубеж Ржев — Велиж — Великие Луки население не знало. Весть эта воспринималась с большой радостью.
Наши действия, как и следовало ожидать, не остались незамеченными командованием охранных войск противника. Однако поначалу военные коменданты Красногородска, Опочки и Себежа не разобрались, с кем имеют дело, и приняли нас за десант Красной Армии. Позже о «ликвидации» его даже была опубликована заметка в фашистской газетке, издававшейся на русском языке.
Сразу же против нас были брошены подразделения автоматчиков. Одно из них (небольшое) утром 9 января завязало перестрелку с отрядом Ветковского. Комбриг приказал к месту боя направить два взвода из других отрядов. Перевес сил оказался на нашей стороне, и фашисты отступили.
— Разведка боем,— оценил я ситуацию, получив донесение Ветковского.
—На сегодня — все,— высказал свое мнение Лебедев.— Больше не сунутся. А вот завтра полезут значительными силами. Нужно хорошенько укрепиться на высотах вблизи Кунглово. Слова комбрига обрели форму приказа. И бойцы отрядов «Смерть оккупантам» и «25 лет Октября» основательно потрудились в течение ночи, укрепляя оборону высот.
О первых боевых делах бригады следовало сообщить начальству, но, увы, рации у нас не было. Калининские партизаны в этом отношении были пасынками. Наши соседи — и белорусы, и ленинградцы, и латыши — имели уже в 1942 году радиосвязь со своими штабами. 10-я Калининская бригада получила рацию лишь накануне 1-го мая 1943 года.
А тогда мы обратились в спецгруппу Подгорного. Командиром Подгорный был энергичным, но любил славу и власть. Нашу сводку о захвате Синьозерья и Александрово он включил в свое донесение. Оно попало в оперативную сводку штаба партизанского движения на Калининском фронте от 1 февраля 1943 года.
Утром 10 января гитлеровцы открыли по нашим позициям артиллерийский и минометный огонь. От зажигательных снарядов в деревне загорелись дома. Затем застрочили крупнокалиберные пулеметы противника. Мы отвечали редко. Мороз был сильный, видимость плохая. Командиры отрядов Рожко и Ветковский правильно рассудили: «Партизаны находятся в укрытии, а солдаты неприятеля вынуждены залечь в открытом поле. Пусть себе лежат, сколько им заблагорассудится».
Но вот пушки и минометы умолкли, гитлеровцы (их было человек двести пятьдесят) цепями стали приближаться к высотам. Партизаны усилили огонь и заставили атакующих вновь зарыться в сугробах. В это время в штаб бригады пришло сообщение разведки: крупная вражеская часть на подходе с запада.
Прочитав донесение, я сказал комбригу:
— Михаил Арсентьевич, бой у Кунглово нам необходимо выиграть во что бы то ни стало до подхода свежих сил противника.
— Что предлагаешь?
— Сейчас же использовать наш резерв. Пусть отряд Позднякова ударит во фланг противнику.
— Правильно,— согласился Лебедев.
И вот в самый напряженный момент боя партизаны во главе с Поздняковым и Федоровым обрушились на фланг гитлеровцев. Это решило исход боя. Под прикрытием огня артиллерии противник начал отходить по шоссе в сторону Красногородска.
Поздно вечером в деревне Александрово состоялось накоротке совещание командного состава. Были отмечены умелые действия командиров взводов Рыбкина, Сентерева, Балакшина, Хмелевского, групп разведчиков под командованием Осипова и Андреева. Следует заметить, что разведка все эти дни велась у нас отлично и мы были в курсе сосредоточения сил противника. А собрал он их немало — до тысячи солдат и офицеров.
— Рассчитывать на разгром противника в завтрашнем бою, — сказал в заключение комбриг,— мы не можем. Но и без боя отойти не имеем права. Значит, наш успех должен строиться на выгодности позиций, на стойкости бойцов, на маневре. Наутро враг сделает попытку окружить нас здесь, а мы тем временем должны быть на высотах у деревень Малыгино, Кресты и Масловка.
Бригада предприняла маневр, отойдя на 5—-6 километров восточнее, поближе к лесисто-болотистой местности. А утром начался бой, продолжавшийся дотемна. В самом начале неприятель допустил ошибку, пытаясь окружить Александрово. В этих целях одно из его подразделений двигалось по шоссе из деревни Гривки к деревне Переузино. Гитлеровцы сложили свое оружие на подводы. И были наказаны за эту беспечность: из засады по колонне открыли огонь отряды Рожко и Позднякова.
Противник понес большие потери, а главное — пришел в замешательство. Ему пришлось перестраивать все свои планы. Мы же выиграли время.
Гитлеровцам, видимо, стало известно, что штаб нашей бригады находится в деревне Масловка. К середине дня противник сосредоточил на подступах к ней свои силы, и там развернулись упорные бои. Вокруг Масловки, расположенной на высоте, простиралось большое поле. Снегу лежало на нем предостаточно, и ворваться в деревню было нелегко. И все же фашисты делали одну попытку за другой. Шли они в белых халатах во весь рост, беспорядочно стреляя из автоматов. Мчались на санях, строча из пулеметов. Но всякий раз нарывались на наш точный огонь. Партизаны удачно использовали складки местности, постройки.
Попытка противника сходу прорвать нашу оборону у деревни Масловка захлебнулась. Тогда он решил вклиниться между отрядами Рожко и Позднякова, оборонявших деревню Малыгино. В момент перегруппировки своих сил гитлеровцы подвергли наши позиции сильному обстрелу из орудий и тяжелых минометов.
То было неистовство взбешенного врага. Осколочный град падал всюду, загорелись постройки. Пламя перебрасывалось с одной соломенной крыши на другую. Комиссар подозвал к себе Павлову:
— Спасать надо жителей, Анастасия Васильевна. Бери в помощь Сауликову. Вараксов выделит вам бойцов из взводов Орехова и Сосновского, и эвакуируйте спешно всех в лес юго-восточнее Масловки.
Стали нести потери и мы. Осколки ранили многих. Невзирая на смертельную опасность, наши медики Аркадий Ярдаков, Анастасия Морозова, Валентина Щелкунова бесстрашно спешили туда, где раздавался стон или крик. Вот кто-то из них метнулся к гумну, где в канаве, идущей вдоль постройки, расположил свой «командный пункт» комбриг. Я в это время с Егором Самоучкиным — ординарцем, вооруженным ручным пулеметом, находился в картофельной яме, неподалеку от Лебедева. Я приказал Самоучкину:
— Быстро к комбригу.
Егор вернулся через несколько минут, доложил:
— Плох наш командир. Зажигательный угодил в стенку гумна. Комбриг оглушен. На нем горела шуба, шапка, валенки.
— Помощь оказана?
— Да. Почти сразу. Там комиссар.
— Вскоре к нам подошли Козлов и Романов. Были они мрачны.
— Вот что, Николай Михайлович,— сказал комиссар, — Лебедев тяжело контужен и, очевидно, надолго вышел из строя, так что принимай командование бригадой. Считай это решением подпольного райкома партии.
Возражать было некогда, да и по существу все было правильно. Началась опять атака гитлеровцев. Я поспешил в боевые порядки отрядов. Отовсюду шли донесения: боеприпасы на исходе.
Мы отразили атаку. Горизонт начал сереть, и фашисты прекратили наступление.
— Ишь ты,— зло усмехнулся Дорош,— ужинать собрались. Точно по расписанию.
— Ну и пусть себе. У нас будет время что-то предпринять. Что думает по этому поводу начальник штаба? — спросил я.
— Патроны, — тоскливо ответил Захар Леонтьевич.
Подошел Солдатов:
— Товарищ комбриг...
Я прервал начальника разведки:
— Комбриг вышел из строя, но он в бригаде. Называйте просто товарищ командир.
— Товарищ командир, вернулся Шуваев с ребятами. К немцам подошло подкрепление. До роты. Сейчас отдыхают. Жгут костры.
— Худо. Завтра бой принимать нельзя. Лейтенант,— повернулся я к Дорошу,— передайте командирам отрядов: пусть готовят людей к маршу. Отдыха не будет.
Комиссар бригады поддержал мое решение. Отряды стали сосредоточиваться для марша. Гитлеровцы вели методический артогонь по нашим позициям. Козлов неторопливо расспрашивал командиров об отличившихся в бою. Назывались имена А. Е. Буланова, Ф. Е. Осипова, М. Т. Баркова, С. Н. Моргачева, П. В. Зудилина, Н. А. Маликова, А, Л. Малышева, И. Г. Евсеева, И. М. Пащенко, Д. С. Макеенко, С. С. Чапкевича, В. Ф. Слесаренок, И. М. Лабецкого, И. Э. Тучинского и других. Тяжело раненный, не оставил боевого поста и разил фашистов из пулемета, пока билось сердце, Сергей Поляков — молодой партизан.
Уходили в ночь на 12 января. После тяжелого боя. Без отдыха. Под обстрелом. Где-то за полночь вступили в пределы Себежского района. На подходе к полотну железной дороги в одной из деревень подводы с ранеными были обстреляны с чердака пулеметным огнем. Поднялась паника. Раненые стали расползаться по кустам. Наши санитарки проявили исключительную выдержку и смелость. Нашли всех до единого. Владимира Расторгуева Зина Плюскова искала более часа. Он настолько ослаб, что не мог подать голоса и лежал уже в беспамятстве. Действовал железный партизанский закон: в беде не оставлять.
Через сутки бригаду догнали наши разведчики, доложили: в бою за Масловку и Малагино противник потерял только убитыми свыше ста солдат и офицеров. Свою злобу нацисты выместили на мирных жителях. В подвале сгоревшего дома укрылась семья Мартыновых — восемь человек. Старшей из них было 80 лет, младшей, Тане,— 2 года. Всех их расстреляли. Очевидец этого зверства Сергей Ларионович Мартынов живет сейчас в Красногородском районе. Он был в числе расстрелянных, но вскоре пришел в себя и полз, будучи трижды ранен, по снегу всю ночь, пока его не подобрал Павел Дмитриевич Дмитриев — житель деревни Вишняки.
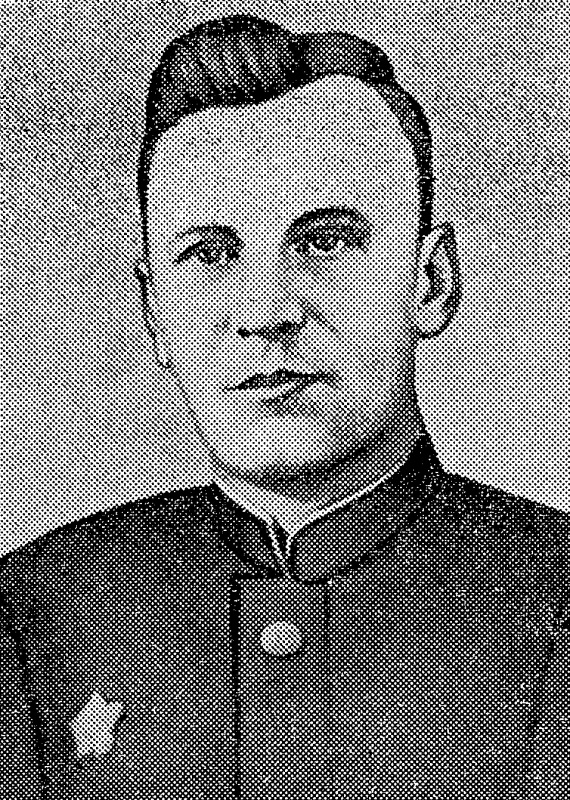 |  |
| Н. М. Вараксов - командир 10-й Калининской партизанской бригады | М. С. Орлова (Федорова) - комсорг отряда |
В конце января и в первые дни февраля бригада базировалась в деревне Брод. 56 человек новеньких дали здесь клятву на верность Родине — приняли партизанскую присягу. Приход в наши ряды местных жителей благотворно сказался на упрочении связей с населением деревень в районе боевых действий бригады. Кроме того, мы укрепили подразделения разведки людьми, хорошо знавшими окрестные леса.
Все, кого мы приняли в отряды, показали себя в боях. Среди них не оказалось малодушных, и никто в дальнейшем не страдал «болезнью», которая называется «партизанская вольница». Правда, у нас от нее избавлялись довольно быстро. «Главным лекарем» был наш комиссар. Ему помогали коммунисты — в феврале 1943 года партийная организация бригады состояла из 46 членов и кандидатов в члены ВКП(б).
Особенно много среди пополнения было молодежи. Машу Орлову, молоденькую учительницу, начало войны застало в Москве. А через несколько дней девушка уже рыла окопы на границе с Латвией. Окопы эти не стали преградой для фашистских танков. Гитлеровцы оккупировали район. Маша не покорилась врагу и стала одной из помощниц Орехова, Федорова и других членов славной «Восьмерки».
Санитарка, рядовой боец, связная. И страстный агитатор. В крестьянских избах Красногородского и Себежского районов часто звучал взволнованный голос партизанки Орловой. Прочтет сводку Совинформбюро. Расскажет о делах партизанских. Посоветует, как лучше саботировать экономические мероприятия оккупационных властей. И нередко в это же время в деревне находились полицаи.
Лена Еремеева была еще моложе, чем Маша Орлова. В 1941 году она окончила восемь классов в городе Пушкине, под Ленинградом. А пришла к нам, уже имея боевой стаж. Распространяла листовки в деревне Гречухи, куда привели семью Еремеевых превратности военной судьбы. В составе одного из отрядов 2-й Калининской партизанской бригады участвовала в тяжелейших боях с карателями в Невельском районе и в Белоруссии. У нас Лена стала смелой разведчицей и подрывником.
— У Еремеевой золотые руки — промашки не ведают,—говорил о Лене командир отряда Жуков.
— И цепкие глаза. Все замечают в разведке,— вторил командиру комиссар отряда Волков.
Как-то прочитал я в одной из мемуарных книг: «Взрывы на дорогах — соль партизанской жизни». Верные слова. В биографии партизанки Елены Еремеевой много было такой «соли». И на шоссейных дорогах к Себежу и Опочке. И на стальных магистралях Резекне — Новосокольники. И на обычных проселках, когда по ним двигалась фашистская техника.
В Себежском и Идрицком районах в начале 1943 года уже действовали крупные партизанские силы. Отряд Владимира Ивановича Марго (о нем я уже упоминал) превратился в бригаду, и о ней шла добрая слава. Бригада под командованием лейтенанта Федора Бойдина пришла сюда во время рейда партизанского корпуса и сразу довольно громко заявила о своем присутствии. Но и у Марго, и у Бойдина, как и у нас в междуречье, были предшественники. Я акцентирую внимание на этом лишний раз только для того, чтобы подтвердить главную черту развития партизанского движения: не было такого уголка на оккупированной земле, где бы уже в первые месяцы войны не действовали непокоренные патриоты земли советской. Один человек. Три. Группа. Маленький боевой отряд. Ячейка подполья. Но были!
В районе нашего нового базирования население хранило память о первом партизанском отряде — «сергеевских ребятах». Так называли партизан по имени их бесстрашного командира сержанта Сергея Моисеенко. Как-то зашел у нас разговор об этом отряде с командирами разведки. Присутствовавший в штабе Константин Сентерев и говорит:
— А в нашем взводе один паренек хорошо знал Сергея, оружие ему доставал.
— Кто такой? — поинтересовался Козлов.
— Петька Власов. Молодой еще, но боец что надо. Он в бригаду пришел еще осенью. Когда вблизи здешних мест мы формировались.
Ни у меня, ни у комиссара не нашлось тогда времени поговорить с Власовым. О чем очень сожалею, Вскоре в одном из боев он был ранен. След его затерялся. Можете представить мою радость, когда совсем недавно я узнаю: Петр Андреевич Власов здравствует, работает в городе Себеже.
До войны семья коммуниста Андрея Лукича Власова проживала в себежской деревушке Малеево, Андрей Лукич был председателем колхоза. Осенью сорок первого года он и напутственным словом, и оружием, и провиантом поддержал красноармейцев, положивших основу «Сергеевскому отряду» партизан. Гитлеровцы арестовали Андрея Лукича и расстреляли в Себеже. Связей с партизанами Власовы не утратили. Петр Власов и его мать Пелагея Максимовна по-прежнему помогали «сергеевским ребятам». Оправившись после ранения, Петр попал в белорусскую партизанскую бригаду, в состав которой входил теперь отряд имени Сергея Моисеенко. Разыскал Власова уже в послевоенные годы комиссар «сергеевских ребят» Разитдин Инсафутдинов. Они и сейчас друзья.
Росли ряды калининских партизан. Наращивало мощь партизанское движение в Белоруссии. Усиливали боевую активность народные мстители в Латвии. С осени 1942 года партизанские отряды начали освобождать от оккупации многие населенные пункты. Так на стыке трех братских республик — Белоруссии, Латвии, России — образовался партизанский край. В него входили территории Россонского, Освейского, Дриссенского районов Витебской области, добрая половина Себежского, Идрицкого и часть Пустошкинского районов Калининской области. Край большой: с севера на юг — 80 километров, с запада на восток — все 100. Назвали его Братским — в честь боевого содружества партизан — белорусов, латышей и русских.
Мы появились в этом районе, когда фашисты обрушили на него одну за другой две крупные карательные экспедиции под кодовыми названиями «Заяц-беляк» и «Зимнее волшебство». Понимая исключительное значение края (плацдарм для наступательных операций партизан, близость к стратегически важным железным дорогам), гитлеровское командование двинуло против народных мстителей кроме охранных войск пехотные подразделения вермахта, танки, артиллерию, авиацию. В экспедиции «Зимнее волшебство» число карателей, достигло 20 тысяч. Возглавлял их обергруппенфюрер СС и генерал полиции Еккельн.
С конца января до середины марта шли кровопролитные бои. Объединенные партизанские силы маневрировали, наносили удары по противнику с флангов. 10 февраля у белорусского села Павлово разыгралось целое сражение. От калининских партизан в нем участвовали отряды бригад Бойдина, Гаврилова и Марго. Пытаясь закрепиться в Павлове, фашисты потеряли только убитыми около двухсот человек. И все же враг вынужден был под покровом ночи покинуть село.
В боях по защите края отличились бригады П. В. Рындина, В. Г. Семина, С. Д. Буторина. Наши отряды в те февральские дни проводили одну за другой диверсионные акции на дорогах, идущих к Братскому партизанскому краю. Так, сводный отряд под командованием начальника штаба бригады подорвал рельсы на перегоне Зилупе — Себеж. 156 взрывов раздалось в ту ночь. Полностью был разрушен путь протяженностью один километр. Одновременно там же мы уничтожили 80 метров телефонно-телеграфной связи. Через двое суток группы партизан отряда имени Жданова спустили под откос воинский эшелон, следовавший от Себежа к Зилупе. В результате крушения были разбиты паровоз, четыре крытых вагона, 6 платформ, груженных автомашинами. Командовал операцией начальник штаба отряда Владимир Александрович Авдохин.
Это был второй воинский эшелон, записанный на боевой счет бригады. Первый мы подорвали 25 января на латышской земле, в районе станции Скангали. Героем подрыва была комсомолка Таня Коновалова, окончившая до прихода в бригаду спецшколу ЦК ВЛКСМ. Группа подрывников под командованием Коноваловой долго лежала вблизи насыпи железной дороги, наблюдая за частыми патрулями. Ночь стояла морозная. Скрип снега был слышен издалека. Светила луна. Все просматривалось окрест. Замерзли бойцы, изнервничались. И только Таня оставалась внешне спокойной, изредка вполголоса подбадривала ребят:
— Чего приуныли? Ждать то ли в засаде, то ли у железки — половина партизанской жизни. Подождем еще немного.
После полуночи на небе появились кучевые облака. Они скрыли луну.
— Пора! — скомандовала Таня...
Объект оказался богатым: 6 классных вагонов (данные были после проверены агентурной разведкой) с живой силой врага и 9 платформ с боевой техникой и боеприпасами. Удаляясь от места диверсии, подрывники долго еще слышали взрывы детонировавших снарядов.
Взрыв произвела Таня. Под рельсы была уложена самодельная мина. За этот подвиг Коновалова была награждена орденом Красного Знамени. Награду ей вручали в Москве.
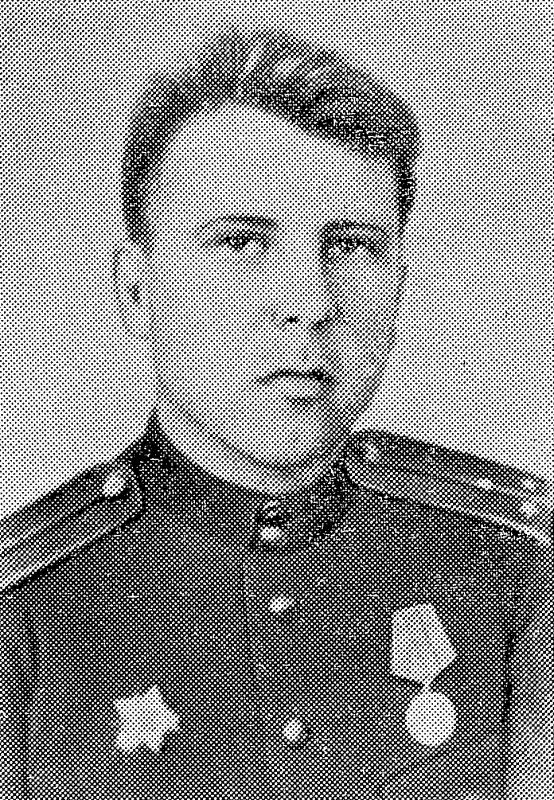 | 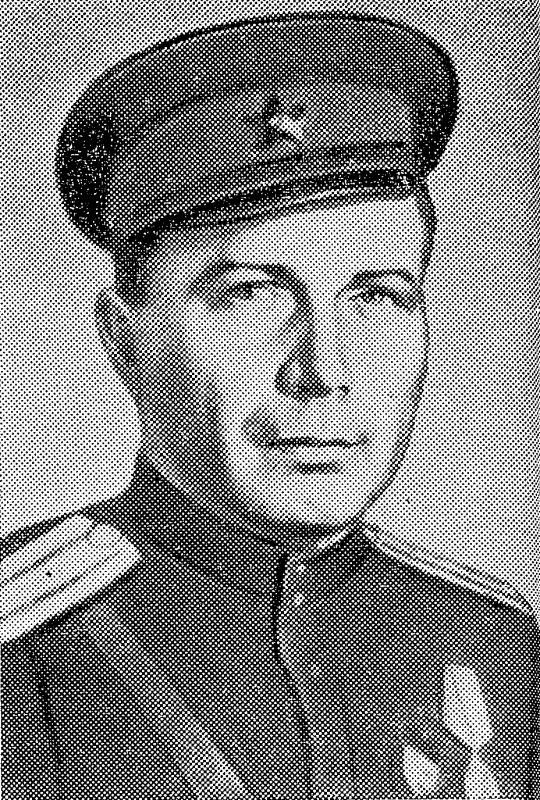 |
| В. А. Авдохин - начальник штаба бригады | А. И. Штрахов - уполномоченный штаба партизанского движения Калининской области |
Весь февраль гремели взрывы и выстрелы на дорогах и к партизанскому краю и в междуречье. Вот выписка из журнала боевых действий за один день:
«18.2.43 г. На дер. Пащерино, где дислоцировался отряд «25 лет Октября», повела наступление выехавшая из Мозулей группа немцев до 100 человек с задачей уничтожить партизанский отряд. В результате боя за район дислокации убито 12 карателей, количество раненых не установлено. Немцы, не выдержав боя, отступили в гарнизоны Мозули, Бальтино».
«18.2.43 г. Группа партизан отряда «25 лет Октября» уничтожила телеграфно-телефонную связь на расстоянии 900 метров на шоссе Идрица — Мозули в районе деревни Пески».
«18.2.43 г. Группа партизан отряда «Смерть оккупантам» организовала засаду на шоссе Красногородск — Карсава. Уничтожены 3 автомашины, груженные артиллерийскими гильзами. Уничтожен мост шириною 8 метров, длиною 11 метров».
И так день за днем. А в конце месяца по приказу уполномоченного штаба партизанского движения майора Алексея Ивановича Штрахова мы направили в помощь партизанам, отбивавшим натиск карателей на Братский край, отряд имени Жданова. Он две недели находился в районе жарких боев, участвовал в разгроме гитлеровцев в районе Освеи, держал оборону в деревне Церковка. Командир Жуков и его подчиненные заслужили похвалу руководства объединенными силами защитников края.
Операция «Заяц-беляк» потерпела фиаско. Не смирило непокоренный край и «Зимнее волшебство». Экспедиции не принеси командованию групп армий «Центр» и «Север» желаемого. В лютой злобе каратели уничтожали все живое на пути отступления. Только в Освейском районе Белоруссии они сожгли 158 населенных пунктов. Горели деревни, дома вместе с их обитателями. Земля горела. Но оставшиеся в живых крестьяне по-прежнему помогали партизанам.
