Андреев С.А. Воспоминания о концлагерях.
Воспоминания ныне покойного участника Великой Отечественной войны, жителя деревни Барсаново Опочецкого района Псковской области Савелия Андреевича Андреева (1923–2002) повествуют о пережитом им в фашистских концлагерях в 1944 году. Мемуары предваряет предисловие, написанное дочерью автора – Любовью Савельевной Ореховой (Андреевой), подготовившей к изданию текст воспоминаний.
Живой и непосредственный рассказ С.А. Андреева адресован самому широкому кругу читателей и будет интересен как школьникам и студентам, так и людям зрелого возраста, в том числе – краеведам и любителям истории.
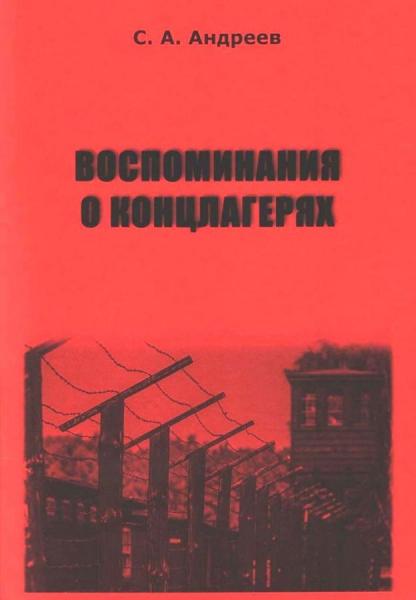
Псков: ПОИПКРО, – 2015.
Предисловие
Савелий Андреевич Андреев, мой отец, родился 1 февраля 1923 года в деревне Барсаново, находящейся недалеко от Опочки. В первый класс пошел в Барсановскую начальную школу.
Вот что он писал о том времени:
«Наступила осень, начались заморозки. Лужи затянулись ледком. Обуть мне было нечего, и в школу я бегал босиком. Ноги мерзли. Время от времени я снимал шапку и грел ступни в ней. Затем бежал дальше.
В школе тоже было холодно, и я, чтобы согреть ноги, подбирал их на скамью и садился на них. Потом брат моей матери дядя Мишка сплел мне веревочные лапти (их в деревне называли «коты»)».
В 1941 году Савелий Андреевич окончил Опочецкую среднюю школу № 1. До Великой Отечественной войны автобусы из Барсанова в Опочку не ходили, автомобилей и велосипедов в деревне не было. Поэтому деревенские дети добирались до городской школы пешком, преодолевая около девяти километров в одну только сторону. Учебные занятия шли в две смены. Вторая начиналась в 14.30, заканчивалась в 20.30. Возвращаться домой школьникам приходилось ночью.
Профессиональное образование мой отец получил уже после Великой Отечественной войны в Ленинградском механическом техникуме железнодорожного транспорта, на паровозном отделении. Работать его направили в Великие Луки, в паровозное депо. Сначала жил в общежитии, потом ему дали квартиру на Торопецком шоссе, в доме № 84.
О своей первой работе Савелий Андреевич рассказывал:
«Начал помощником машиниста. В поездке за одни сутки перебрасывал в топку паровоза по 17 тонн угля».
Позднее по призыву компартии и советского правительства (1955–1957 гг.) Савелий Андреевич в числе других тридцатитысячников отправился в деревню, поднимать сельское хозяйство. Теперь местом его работы стали машинно-тракторные станции (МТС).
Впоследствии он трудился слесарем в Опочецком отделении Псковского завода АТС, работал и на других предприятиях. Всего же его трудовой стаж составил 40 лет, и пенсию он заработал по тому времени немаленькую – 120 рублей.
Однако все мирные послевоенные годы над отцом висела черная тень пережитого во время Великой Отечественной войны. Он очень любил меня (называл ласково «партизаночкой») и моего старшего брата Андрея, позаботился о том, чтобы мы окончили музыкальную школу в Опочке и получили затем высшее образование. Но благополучной нашу жизнь с ним назвать никак нельзя. Зрелище бесчисленных смертей, целый ряд пройденных им страшных фашистских концлагерей, мучительный голод, непосильный труд, издевательства, физические муки – все это самым негативным образом сказалось на его психике. С ним было очень трудно, в последние годы его жизни – особенно. Он практически никому не доверял и очень боялся голода, как многие и многие из тех, кто пережил минувшую войну. Покупал в автолавке по пятнадцать буханок хлеба в неделю – и большая часть его, конечно же, портилась, и ее приходилось выбрасывать.
Однако для своих друзей-партизан Савелий Андреевич никогда ничего не жалел. Это были для отца самые дорогие гости. Они приезжали к нам недели на две, мать варила для них в русской печи щи, тушила картошку и тому подобное. Отца гости называли «батькой», хотя он был их ровесник. За столом бывшие партизаны пели русские народные песни, очень часто – советскую патриотическую со словами «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина…».
Эти же слова – «За Родину! За Сталина! Перебежками вперед!» – отец нередко кричал во весь голос во сне по ночам и будил весь дом. По-видимому, ему снилась тогда война, виделись те страшные концлагеря, через которые он прошел не сломленным, не предавшим свою страну и свой народ.
О пережитом отец нередко рассказывал моим сыновьям, своим внукам. И это помогло им вырасти настоящими патриотами. Мои старшие сыновья – Михаил, Владимир и Александр Ореховы – от службы в армии не уклонились. Сейчас готовится служить самый младший – Андрей. Хочу здесь еще сказать, что мой второй сын Владимир трижды участвовал в традиционном параде в День Победы в Москве на Красной площади, а его младший брат Александр был участником праздничного майского парада в городе-герое Анапе.
Один из ближайших друзей отца – Леша Рожок (Алексей Тимофеевич Петров) – после окончания войны поселился на Украине, поскольку фашисты не только расстреляли его семью за то, что он ушел в партизаны, но и сожгли дом, так что возвращаться в Барсаново ему было не к кому и некуда. Там, на Украине, Алексей Тимофеевич и умер – скоропостижно, в результате несчастного случая. И отец отвез туда на его могилу горсть земли с пепелища Лёшиного дома.
За уход сына в партизаны немцы отправили в концлагерь сестру и мать Виналия Вавиловича Константинова из Люцкова. Виктор Семенович Любимов, чтобы спасти родных от расправы, забрал их в партизанский отряд, и его мать, женщина уже немолодая, там умерла – жить в холодных и сырых землянках было тяжело.
Хочу попутно добавить, что Великая Отечественная война унесла и жизнь моего родного деда по матери – Григория Васильевича Рыбкина. Он был призван в Красную Армию в 1944 году, во «второй фронт», и погиб под Будапештом.
4 ноября 2001 года в четыре часа утра в Барсанове сгорел дом отца (тогда он был уже вдов, моя мать, Антонина Григорьевна, умерла в 1999 году). Многое при пожаре погибло, огонь уничтожил практически все старые фотографии. Часть того, что уцелело, размещено на фотовкладке в этом издании.
Скончался Савелий Андреевич Андреев 21 мая 2002 года, похоронен на кладбище деревни Серово (Варыгинская волость).
Любовь ОРЕХОВА (АНДРЕЕВА)
Начало войны. Неудавшаяся эвакуация
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
Пользуясь внезапностью нападения на Советский Союз, фашисты продвигались вперед очень быстро. В июле, числа 11–12-го, они заняли деревню Барсаново.
На хуторе Костричино, недалеко от Барсанова, был выставлен заслон из шестидесяти красноармейцев и сержантов, чтобы задержать немцев под Опочкой и дать возможность организованно отступить нашим войскам из райцентра. Красноармейцы стояли насмерть против превосходящих сил противника. Двое суток они держали оборону у хутора Костричино, не пропуская немцев в Опочку. Из шестидесяти человек в живых осталось всего тринадцать. Остальные погибли и похоронены в Костричине, где сейчас проходит высоковольтная линия.
Немецкие танки подошли к Барсанову вечером, но сходу им было не проскочить в Опочку, так как мост через Иссу взорвали наши саперы. Берег реки со стороны деревни был спущен населением, образовался противотанковый ров. Таким образом, по красногородской дороге фашистам было в Опочку не пройти. В ярости они обстреляли Барсаново, сожгли пять домов и отошли. Через Иссу они переправились где-то выше и пошли в наступление по мозулевской дороге.
Когда взорвали мост, жители деревни стали уезжать – кто в лес за Клюкино, а кто сделал попытку добраться до советского тыла. Возглавлял отъезд председатель колхоза «Новое Барсаново» Иван Матвеевич Матвеев.
Мы с матерью тоже решили двинуться в тыл наших войск, но уехать далеко нам не удалось, поскольку немцы догнали нас в деревне Бабинино, по шоссе на Пустошку. Мы намеревались добраться до железнодорожной станции в Пустошке и эвакуироваться. Мужики считали, что через Опочку мало ходит поездов, отсюда не уедешь, поэтому и решили отправиться в Пустошку, где поездов ходило больше.
От Опочецкого райкома партии и от райисполкома в те дни не поступило абсолютно никаких указаний о том, куда и где отступать в советский тыл. Люди не знали, что делать.
Я уже закончил 10 классов Опочецкой школы № 1, и меня должны были призвать на военную службу осенью 1941-го, как и всех ребят 1923-го и 1922 годов рождения (у кого была отсрочка). Я очень хотел пойти в военное училище. Был на приписке в мае 1941 года. Знал, что меня направят в училище морской авиации. Я сам подстригся в парикмахерской наголо под машинку. В то время так стригли наших солдат. Мать купила в магазине ткань цвета военного обмундирования, и по моей просьбе мне сшили штаны-галифе, как их тогда называли (подобные носили в Красной Армии).
И вот в лесу у деревни Бабинино мы узнали, что немцы уже обогнали нас, и решили возвращаться домой, в Барсаново. Вскоре после того, как мы вышли из леса на Пустошкинское шоссе, мы увидели немецких солдат. Увидев мои галифе защитного цвета, они подозвали меня к себе от телеги, за которой я шел. Сняв мою фуражку, увидели, что я острижен, как русский солдат. Стали меня обыскивать и в грудном кармане нашли русско-немецкий словарь на 10000 слов, которым я пользовался в школе, где мы учили немецкий язык. Немцы заговорили между собою: я-де красноармеец. Спасибо, деревенские мужики по просьбе матери остались со мной и объяснили немцам, что я не солдат. Тогда один из них, показав на свою грудь, сказал: «Чехословак!», и растолковал мне, чтобы я сменил галифе. Мне повезло, что я попал к чехословакам – они относились к русским иначе, чем немцы. Словарь мой чехи взяли с собою, а меня отпустили.
Подпольщик спецгруппы «Борец»
Все мы вернулись обратно в Барсаново. Нас, комсомольцев, было здесь тогда 25 человек. Фашистам нас никто не выдал. Народ у нас был дружный и хороший. Немецкие оккупационные власти выдавали всем жителям удостоверения личности, а комсомольцам обычно – так называемые «Зондерс аусвейс», то есть особые удостоверения.
Вблизи Барсанова не было партизан – у нас было тихо. На мосту через Иссу стояла охрана. Позднее в Барсановской школе расположились немцы. Вместе с немцами служили перешедшие к ним армяне, а позднее там появились еще таджики, узбеки, туркмены и казахи. Они объединялись в так называемую «Среднеазиатскую армию»: носили немецкую форму и знаки отличия на рукаве – желтое кольцо и что-то еще, уже не помню.
Армяне и азербайджанцы служили немцам честно и ладили между собой. Они вместе с немцами ездили в Себежский район в карательную экспедицию против партизан. Возвращались в Барсаново с награбленными вещами и в Больших Рогатках, Волкове и других деревнях пропивали награбленное, меняли его на самогон.
После них стояли в школе и в Барсанове латыши, они тоже верой и правдой служили фашистам. Немцы и их готовили к карательным операциям против партизан, но осуществить свои намерения немцам не удалось. Эти планы были сорваны мною.
Это было очень опасное для меня задание.
Вот с чего всё началось. Ко мне любили ходить ребята не только из Барсанова, но и из других деревень – как до войны, так и во время неё. Нас, желающих уйти в партизаны, набралось восемь человек. Это были всё мои друзья. Собирались у меня в доме, а когда темнело, уходили в сарай и там проводили свои собрания: составляли планы о том, как подключиться к борьбе против фашистов. Ведь не так просто было уйти к партизанам из наших деревень вблизи Опочки. Партизанские базы располагались в лесах, вдали от райцентра. И если бы кто ушел к партизанам – немцы за это уничтожали семьи. Там, где стояли партизаны, было проще – мобилизовали, и все.
Нас было восемь друзей, а именно: Алексей Тимофеевич Петров, 1922 года рождения, из деревни Белоусы (местные жители звали его Леша Рожок. Я с ним учился в школе, начиная с первого класса в Барсанове; вместе мы закончили школу № 1 в июне 1941 года); Алексей Петрович Егоров из деревни Бабенцы, 1923 года рождения (начальную школу закончил на хуторе Жилино, а среднюю школу № 1 – вместе с нами); из деревни Бабенцы с нами дружил Виктор Семенович Любимов, 1926 года рождения, помоложе нас, но был особенно активным товарищем – секретарем комсомольской организации в колхозе «Ленинский», куда входили Белоусы и Бабенцы (до войны); Михаил Васильевич Иванов, 1923 года рождения, из деревни Бабенцы, также был нашим единомышленником и надежным другом в любой обстановке; Дмитрий Константинович Константинов из деревни Маслово и Василий Федорович Леонов из деревни Большие Рогатки тоже были нашими друзьями. И восьмым был я – Савелий Андреевич Андреев.
И вот Леше Рожку удалось установить знакомство с Константином Дмитриевичем Чугуновым, присланным из Москвы советским командованием в нашу местность для организации и проведения разведки в глубоком тылу у фашистов и передачи необходимых сведений советскому командованию. Вместе с ним прислали еще несколько человек.
Все мои друзья, перечисленные выше, ещё не проходили военной службы в армии, но горели желанием вступить в борьбу с немцами.
Леша Рожок доложил Чугунову о нашей группе, о том, что у нас у каждого имеются оружие, патроны и гранаты. Чугунов некоторое время скрыто следил за нами (как выяснилось позже), чтобы убедиться в нашей искренней преданности Родине. И вот на одном из собраний в моем сарае Леша Рожок сообщил о том, что он познакомился с Чугуновым и рассказал ему обо всех нас. Вскоре Чугунов ответил, что согласен взять всех нас в свою спецгруппу. Она называлась «Борец». На собрании в сарае было решено, что при уходе надо изобразить, что нас якобы взяли насильно, чтобы не пострадали наши семьи от фашистских карателей.
Решено было собрать гулянку в деревне Большие Рогатки в доме Павла Матвеевича. До войны мы, молодежь, очень любили повеселиться. С друзьями мы никогда не ссорились, пели, играли, плясали. Особенно хорошо плясали Анатолий Иванович Иванов с хутора Жилино (Толя Жилинский) и Лёша Рожок. Вокруг них на гулянках всегда собиралась толпа народу. А на гармони очень хорошо играл Михаил Васильевич Иванов из деревни Бабенцы. Он на лету схватывал любую мелодию, услышанную по радио.
И вот на гулянку в дом Матвеева должны были придти мы, все восемь человек, а оружие предполагалось спрятать недалеко от деревни, в кустах. Это было осенью 1942 года. За нами на гулянку должен был подъехать сам Чугунов с группой своих товарищей. Мы ждали долго, а Чугунов все не появлялся. Пришлось нам вернуться домой со своим оружием. Это был большой риск. Ведь только за хранение оружия немцы расстреливали на месте.
Как выяснилось позже, Константин Дмитриевич Чугунов был ранен в ногу у деревни Лиственка, что примерно в 30-ти километрах от Барсанова, и за нами приехать не мог. Спецгруппа «Борец» была партизанская, но она не входила в подчинение штабу партизанского движения, а подчинялась разведотделу Калининского фронта (Северо-западного и 2-го Прибалтийского поочередно). Это была военная разведка.
Нам пришлось ждать, пока Чугунов поправится от ранения. И вот в декабре 1942 года в моем сарае состоялось наше последнее собрание. Леша Рожок у нас был за старшего. Все переговоры с Чугуновым проводил он. На этом собрании Леша Рожок доложил нам о том, что гулянка будет организована в деревне Клюкино у Марьи Николаевны на Новый, 1943-й, год. Меня Чугунов приказал оставить в Барсанове подпольщиком, так как, по словам Леши Рожка, надежнее меня никого нет. Мне в помощь дали Анну Петровну Иванову из Барсанова.
Первым нашим заданием было сходить в деревню Трубичино на берег реки, где стоял сарай, там мы с Аней должны были дождаться чугуновцев, которые поедут на лошадях, и привести их на место гулянки в деревню Клюкино через Белоусы по льду. Нам был дан пароль.
В нашем доме жила учительница – Клавдия Александровна Земченко, с семьей, но так как латыши в это время уехали из Барсанова, учительская семья переселилась в школу. Все это благоприятствовало нам с Аней выполнить задание совершенно незаметно. Только у моста стояла охрана, полицаи и немцы. Дом, где размещались охранники, был закопан в землю и превращен в бункер, а в самой деревне не было никого из фашистов.
Это задание мы с Аней выполнили успешно. Мои друзья добровольно ушли в партизаны в ночь на Новый, 1943-й, год, а разговоры ходили везде, что их взяли насильно. Это и нужно было, чтобы не пострадали семьи ушедших.
Мне поручалось следить за движением автомобилей со стороны Латвии, Красногородска, узнавать перевозимый груз, записывать номерные знаки машин.
Анну Петровну вскоре арестовали и отправили Германию. Я остался один. Мне стало опаснее выполнять задания. В деревню снова поселили солдат «Среднеазиатской армии», их расквартировали по домам жителей Барсанова. Немцы в основном жили в школе. Командовал всей этой сворой пожилой немец-гауптман (капитан).
Мне было дано задание узнать численный состав и вооружение охраны моста, которая жила в закопанном в землю доме (бункере). Я подговорил Васю Воронцова (его отец в то время был старостой деревни), и мы с Васей ходили пилить дрова для обогрева бункера. Я надеялся, что нас пустят в бункер «погреться» и я там разгляжу, что мне нужно. Но полицаи и немцы в бункер нас не пускали.
Однако вскоре подвернулся удобный случай. В наш дом постучались и зашли люди, одетые в новенькую советскую военную форму, вооруженные советскими винтовками. Это было ночью, лунной и светлой. Один из этих людей, с конопатым лицом, пригласил меня за стол и стал уговаривать работать «на партизан», давал даже пистолет, говорил о том, что их разбили под Люцковом, а Лёша Рожок дал им адреса, где можно укрыться. Ведь как тупо было придумано! Люцково находится на опушке леса, а прятаться они пришли в Барсаново, где на мосту стоит охрана.
Я сразу понял, что это провокаторы, т.е. полицаи, переодетые в советскую военную форму, и они хотят меня одурачить. Мороз был крепкий, и один из провокаторов замёрз на улице и стал стучать в окно. На ходу угрожая мне, они пошли на улицу. Я вышел в сени (троестен), окно там было забито досками. В щель я хорошо видел полицая Сашку Соколова из деревни Черногузово. Он стоял на мосту в охране. И мне стало окончательно ясно, что это провокаторы.
О появлении партизан было всем приказано сообщать в охрану моста. Если кто не сообщит, тому расстрел. Вот я и решил этим воспользоваться, чтобы проникнуть в бункер и выполнить задание К.Д.Чугунова и Лёши Рожка. Рожок стал у Чугунова начальником службы спецгруппы.
Накинув на себя полушубок, надев шапку и сунув ноги в валенки, но прямо в кальсонах, я побежал к мосту в этот бункер. А вся свора провокаторов пошла в деревню, в сторону Белоусов. На мосту стоял полицай Сашка из Огурцова (я их всех знал в лицо). Он пропустил меня в бункер.
Немец слушал меня, я говорил только по-русски, полицай переводил ему. Немец сказал: «Гут, гут, камрад» – хорошо, хорошо, товарищ. Налил мне стопку водки. Я выпил, и меня уложили спать за перегородкой у дверного проёма (дверей не было). Мне было видно всё оружие, висевшее на стене, в том числе два ручных пулемёта (о чём Чугунов особенно просил узнать). Вскоре после того, как я улёгся спать (я не спал, а лежал и храпел), в этот же бункер вошли все те провокаторы, которые приходили в наш дом.
Через несколько дней К.Д. Чугунов знал численный состав охраны и их вооружение. Лёша Рожок посмеялся над тем, как меня немец угощал водкой, и сказал: «Есть за что угощать».
Где-то летом 1943 года в Барсановской школе разместили солдат «Среднеазиатской армии» и немцев. Этих нацменов из числа советских военнопленных, перешедших на службу к немцам, готовили для карательных экспедиций против партизан. Их было два взвода. В нашем доме поселились три таких солдата. Постепенно я начал находить с ними общий язык. Однажды я им сказал: «А что вы скажете, когда придут наши? Ведь вас будут судить как изменников Родины». Они стали говорить, что хотят уйти к партизанам, но не знают, где их найти. Я им предложил встречу на хуторе Слободка. Встреча состоялась. С их помощью я стал набирать всё больше солдат, желающих уйти к партизанам. Вместе с ними хотел уйти и я .
Примерно во второй половине августа 1943 года приехал в Барсаново в качестве инструктора «по истреблению партизан», как он выражался, старший лейтенант (по-ихнему обер-лейтенант) Анатолий Каминский, награждённый немецким крестом как раз за «истребление партизан». О его прибытии в Барсаново я немедленно сообщил в спецгруппу «Борец» через И.Ф. Фёдорова из Клюкина и описал его внешность. Позднее этот немецкий шпион сумел проникнуть в спецгруппу, но К.Д.Чугунов уже всё о нём знал. И этот инструктор «по истреблению партизан» был расстрелян по приказу Чугунова.
Однажды мне принесла письмо Нина Денисенко, проживавшая в деревне Люцково, сказала, что письмо от чугуновцев, а сами они ушли в Белоруссию. И действительно, они тогда уже были там. Письмо агитировало солдат «Среднеазиатской армии» быстрее переходить на сторону партизан. Я это письмо от Денисенко взял, прочитал солдатам, что жили в нашем доме, и сжёг его в чугунке.
Позже выяснилось, что это письмо было написано не чугуновцами, а немцами, Н. Денисенко была ими завербована.
Деревню нашу окружили фашисты, вокруг установили пулемёты. Между наших лип в огороде тоже стоял пулемёт и было десятка два немцев, и так повсюду. Солдат, которые хотели перейти к партизанам, разоружили и отправили по другим деревням, где они стали работать на немцев под охраной.
А вскоре и меня арестовали, а именно – 17 декабря 1943 года, примерно часов в 5 утра. Я не успел встретиться с чугуновцами.
За мною пришли пять человек – немцы и власовцы. Моя кровать стояла за занавеской, я спал… и вдруг почувствовал, как что-то холодное упёрлось в грудь. Это немец наставил в упор в грудь автомат и спросил: «Андреев Савелий?» Я увидел на груди у немца светившуюся зеленоватыми буквами бляху с надписью на немецком языке: «Полевая жандармерия».
Мать собрала мне мешок, куда положила хлеба и полоску шпику. У нас с матерью были одни валенки на двоих, и я решил их не надевать, так как думал, что меня все равно расстреляют. Резиновые сапоги были отданы Леониду, заклеить, и я попросил немцев, чтобы мать сходила за ними.
Немец уперся в спину матери дулом автомата и повел ее за сапогами. Принесли незаклеенные сапоги, я их обул на ноги. Одевался я на глазах у немцев, и поэтому они не обыскали карманы, а просто провели руками поверху, и все. А в потайном кармане пиджака лежал небольшой портрет И.В. Сталина, завернутый в белую бумагу. Я забыл об этом портрете – он был величиной с лист в отрывном настенном календаре.
И так, с этим портретом в кармане, я был вызван на допрос в гестапо в Опочке. Меня там крепко били и заставляли признаться в получении письма, которое мне принесла Денисенко. Требовали сказать, кому я его передал. Тут я сообразил, что надо только отпираться от этого письма, что я и делал, несмотря на зверские избиения. Пугали меня и по-другому: приставляли пистолет под челюсть у горла и говорили: «Считаем до пяти, не признаешься – офицер убьет тебя». Это говорил переводчик. Потом вели счет до трех, но я всё отрицал. Я знал, что в случае признания непременно буду расстрелян, а не признаюсь, то, может быть, и уцелею. Вот так я и остался жив.
В Опочецком концлагере
В первых числах января 1944 года из гестапо меня перевезли в Опочецкий концлагерь. Это был местный концлагерь, где фашисты ещё не успели продемонстрировать в полной мере своё варварство и зверство по отношению к советским людям. Опочецкий лагерь не имел вышек для охраны – таких, как, например, в Штуттгофе. Его охраняли в основном наземные посты из немцев и полицаев; он был огорожен досками и колючей проволокой.
Я находился в общей камере, располагавшейся примерно в середине каменного здания. В камере было около 50 человек, в том числе – много моих земляков из деревень Люцково, Белоусы, Бабенцы и других. Были в нашей камере и люди из Опочки, а также военнопленные. Их отправляли в лагерь за разные дела, но большей частью – за побеги.
Кормили нас супом с картофелем, щами со свеклою, конечно, безо всяких жиров и мяса. Однако это, можно сказать, были деликатесы по сравнению с тем, что меня ждало впереди. В Опочецком концлагере разрешались продуктовые передачи. Передача предварительно тщательно проверялась, и только потом ее получал тот, кому она была адресована.
В нашу камеру немцы поместили троих военнопленных, пытавшихся уйти к партизанам. Одного из них звали Ваня Поздняков, он был артистом из хора Пятницкого. До сих пор помню его внешность: выше среднего роста, стройный, лицо покрыто мелкими веснушками, пальцы рук – тонкие, ладонь узкая, то есть явно Ваня был выходцем из интеллигентной семьи. Он не мог стоять спокойно на одном месте, всё время поворачивался, приплясывал и тихо про себя что-то напевал. Одет Ваня был в советскую военную форму. По вечерам мы просили его спеть: уж очень у него был приятный, красивый, сильный голос. За песни с ним делились хлебом, салом и другим все, кому приносили передачу. Но петь песни в лагере фашисты запрещали – как днём, так и ночью. Ваня нам отвечал так: «Если вы не выдадите меня, тогда я вам спою». Мы его заверяли, что не выдадим, и он пел для нас старинные русские песни, песни политзаключённых и каторжан. Пел и весёлые песни. Многие, слушая его пение, плакали. В дверь сердито стучали фашисты, а Ваня всё пел. Тогда они врывались с палками в руках в камеру и спрашивали: «Кто пел песни?» Все молчали. Фашисты начинали бить палками тех, кто им попадал под руку, и снова спрашивали: «Кто пел песни?» Не добившись ответа, фашисты избивали заключенных и выходили вон. Немного погодя, Ваня опять принимался петь. После нового сердитого стука в дверь в камеру врывалось уже не два фашиста, а четверо или пятеро, и все с дубинами. Избивали заключенных долго. Доставалось всем. И снова уходили ни с чем – Ваню мы не выдавали. Послушавшись совета стариков, Ваня тем вечером больше не пел: а то, чего доброго, в третий раз эти ироды применят уже не палки, а оружие. А назавтра, как только смеркалось, всё повторялось снова.
В Опочецком лагере я встретил родного дядю Нинки Денисенко, жителя деревни Люцково. Его бросили в концлагерь вместе с женою Валей. Фамилии его я не помню, а прозвище его было Ванька Кисель (Иван Фёдорович Макаров, 1916 г.р., жена – Валентина Осиповна Макарова, родом из деревни Могалово Красногородского района. Это я выяснил позднее). Я ему сказал о том, что его племянница – Денисенко – посадила меня в концлагерь, но о подробностях не распространялся. А он мне сообщил, что по вине этой же племянницы Нинки в концлагере оказались он сам и его и жена, и всячески Нинку проклинал.
В Опочецком концлагере я пробыл примерно дней 10–14. Затем меня вместе с другими земляками отправили в концлагерь Моглино, что был в 10 километрах за Псковом. А певец Ваня Поздняков остался в Опочке, и дальнейшая судьба его мне не известна.
Моглино. Пересыльный концлагерь за Псковом
Как только машина, на которой нас привезли в Моглино, въехала на территорию концлагеря, мы увидели: четверо парней несут взятый за углы кусок брезента, на котором лежат валенки, сапоги, шапки и верхняя одежда. Как выяснилось, это была одежда, снятая с убитых людей: немцы только что устроили показательный расстрел, уничтожив 25 человек. Дело в том, что из Моглина людей отправляли в другие концлагеря по железной дороге. И эти 25 человек в пути разломали вагон, столкнули под колёса фашиста-охранника, а сами выскочили из вагона и стали уходить. Бежали только молодые, а старики остались в вагоне, так как понимали, что уйти далеко им не удастся. Это произошло где-то на территории Латвии зимою 1944 года. Однако все 25 беглецов были снова схвачены фашистами и привезены опять в концлагерь Моглино для показательного расстрела – в назидание всем остальным заключенным. Расстреляли их эстонцы-эсэсовцы, которые охраняли лагерь.
Нас, привезённых из Опочки, поместили в барак. В прихожей этого барака стоял стол, на нём – пустая бутылка. В бараке были двухъярусные нары-кровати, на них кое-где лежала солома, а где-то и вовсе не было ничего – голые доски. В этом бараке густо кишели клопы, тараканы, блохи, вши. Тогда я понял, зачем в прихожей стоял стол с пустой бутылкой. На этом столе заключённые укладывали своё нижнее бельё и катали по нему взад-вперёд бутылку, давя вшей и других насекомых, которых особенно много гнездилось в швах.
Концлагерь был обнесён колючей проволокой, он находился рядом с дорогой, идущей из Пскова на Палкино. Охранявшие его эстонцы, перешедшие на службу к фашистам, на своих шапках носили эсэсовскую эмблему – череп и две скрещенные кости. Женщин-заключенных от мужчин тоже отгораживала колючая проволока.
В этом концлагере была даже баня. Мне пришлось один раз там побывать. Мыла не было никакого; веников, мочалок – тоже. Была только тёплая вода. Я помню, что мы сняли с древка метлу, у которой уже не было нижних тонких концов веток, а только одни палки, распарили её в горячей воде и тёрли один другому спину. Это мытьё ничего не давало, ведь бельё-то не менялось и не стиралось с тех самых пор, как нас увезли из дому. А придя в барак, мы ложились на нары, где из соломы и из щелей между досками выползали насекомые всех видов. И опять всё кишело паразитами. Около стола с бутылкой в прихожей почти всегда была очередь.
Работать в концлагере Моглино не заставляли, кроме как пилить и колоть дрова для кухни. Трудилось всего несколько человек. Все остальные заключённые никакой работы не выполняли, потому что этот концлагерь был пересыльным пунктом.
Здесь кормили баландой. Готовили ее так: в воде разбалтывали немного муки, чаще всего ржаной, и доводили до кипения. К баланде добавляли небольшой кусочек хлеба. Кухня была отгорожена от мужского барака колючей проволокой, в которой была сделана дверь. Во время обеда всех из барака выгоняли за эту дверь. Постояв в очереди за баландой и получив её, заключенные по одному возвращались в барак.
В дверях, ведущих к кухне, стояли два человека с дубинами в руках – полицаи, в гражданской одежде и с белыми повязками на рукавах. Они смотрели, чтобы никто не пошёл за баландой второй раз.
Понаблюдав за ними, я заметил, что они мешковаты и неповоротливы, чем я и решил воспользоваться, чтобы проскочить второй раз за баландой и хлебом: требовалось поддержать деда Лаврентия, которому было около 70 лет. Он, рослый, широкоплечий мужчина, страдал от голода на этом пайке. Да и мне добавка не мешала.
Дед Лаврентий жил в Опочке, в посёлке Пачесено, откуда его и забрали в концлагерь. Нинка Денисенко пришла в их дом и попросила продуктов – отнести зятю деда Лаврентия Пружковскому, который ушел в партизаны. Дед продукты дал, а Нинка отнесла их в Опочку, в гестапо. И деда вместе с его старухой немцы арестовали.
Получив вместе с дедом Лаврентием хлеб и баланду, я оставлял его в бараке охранять полученный обед, а сам шел обратно, чтобы проскочить к кухне второй раз. Для этого я быстро проходил вдоль колючей проволоки, где были двери на кухню, делая вид, что просто иду мимо. Поравнявшись с дверью, я резко прыгал между полицаев, которые стояли один от другого метрах в трёх – такой ширины были двери-ворота. Пока они поднимали свои дубины, я уже бежал в очередь. Там находил земляков, проскакивал на другую сторону очереди, пробегал вдоль неё, снимал шапку с головы земляка, а ему надевал свою и быстро становился в очередь. Полицай бегал вокруг очереди, а опознать меня не мог. Я стоял спокойно, стараясь не смотреть на полицая. Затем получал второй обед и возвращался к деду Лаврентию, делил с ним пополам новую порцию хлеба и баланды.
На другой день я менялся с кем-либо из земляков верхней одеждой и шапкой и опять проскакивал в очередь. Иногда я со стонами держался рукой за щеку – якобы болят зубы. Дежурные полицаи ежедневно менялись, чем я и пользовался. Редкий был день, когда мне не удавалось получить второй обед, да и то больше потому, что дед Лаврентий меня упрашивал не ходить: вдруг поймают, так ведь изобьют до полусмерти. Но полицаи были слишком неуклюжими, чтобы меня изловить. За меня были молодость и довольно хорошее физическое развитие. Я уверенно делал номера на турнике, на брусьях, стойки на руках на земле и на брусьях, успешно занимался с гирями – двухпудовую гирю с плеча выжимал 16 раз правой рукой, а левой – 13 раз. Мне было 14 лет, когда во время летних каникул мужчины в колхозе взяли меня в артель вместе с ними косить траву. А один я уже косил, когда мне было всего 12 лет. И в концлагере Моглино я ещё не был истощенным. Эта физическая закалка помогла мне и в дальнейшем.
А как чувствительны органы обоняния у голодного человека! Однажды при входе на кухню я почувствовал запах солёной рыбы. Возле крыльца стояли бочки и корзины, плетенные из лучины и составленные одна на другую. Я стал их переставлять и нашёл солёных ершей и мелких окуней в одной из бочек (там было примерно четверть бочки). Быстро набил ими карманы, да и за пазуху натолкал порядочно (в тот раз я был опоясан ремнём поверх одежды).
Потом я зашел на кухню, получил баланду и хлеб и, оглянувшись назад, увидел, что у бочки с ершами уже орудует дубиной полицай.
Мы с дедом Лаврентием нашли банку около барака и на улице варили эту рыбу, но только назавтра, после смены полицаев. Это был для нас праздник! Вот таким образом в Моглине мне удавалось поддерживать деда Лаврентия, уж очень он мне нравился, этот простой русский старик. Он был малоразговорчив, но когда говорил, то очень умно и рассудительно. Говорил о том, что немцы победы не добьются, что бы они с нами ни делали. Победа будет за русским народом! За это я его любил и уважал и старался помогать, чем мог.
Комендант лагеря был эстонец высокого роста, сухощавый, с сединой на висках. Он тоже носил эсэсовскую эмблему на фуражке – череп и две кости. Это эсэсовец предупредил нас во время вечерней поверки: если кто-нибудь убежит, тогда он выстроит всех в одну шеренгу и каждого десятого расстреляет. «Чтобы этого не произошло, – говорил он, – следите сами за побегами».
Был такой случай: два паренька из Порховского района совершили побег. Они пилили дрова, порвали там колючую проволоку, вышли на шоссе и спокойно пошли по дороге. Один мужчина-заключенный лет пятидесяти сообщил об этом эстонцам. Беглецы соскочили с шоссе и пустились бежать по полю, эстонцы стали по ним стрелять, но попасть не смогли. Я услышал стрельбу и вышел из барака вместе с дедом Лаврентием. В это время проезжали на лошадях по шоссе местные жители. Эстонцы выпрягли двух лошадей, сели верхом на них и погнались за беглецами. Кругом было чистое снежное поле, и лишь вдали виднелась деревня. Скача галопом на лошадях за беглецами, эстонцы на ходу стреляли в них. Когда расстояние между беглецами и эстонцами сократилось метров до 200, тогда эстонцы соскочили с лошадей и с колена стали стрелять по беглецам. Один из парней снял шапку, валенки, верхнюю одежду и побежал босиком к деревне по снегу. Второго, что был поменьше ростом, эстонцы убили. Схватили живым уже в деревне и бежавшего босиком, привели его назад в лагерь. Убитого уложили у входа в наш барак, где он и лежал до следующего утра, а взятого живым посадили в одиночку, где он и пробыл до следующего утра раздетым и босым. А ведь стоял январь 1944 года, на улице был мороз.
Утром нас всех выстроили вдоль проволоки, за которой был выкопан ров. Эстонцы показательно расстреляли этого молодого порховского парня, родившегося в 1923 году. Он был черноволосый, немного кучерявый, широкоплечий. А второго, убитого во время побега, 1928 г.р. (т.е. ему в то время было всего 15 лет), бросили в ров. О них нам рассказали земляки погибших. На вечерней поверке долговязый комендант вручил буханку хлеба тому пожилому мужчине, который сообщил о побеге.
В Моглине я пробыл около двух недель. За это время там было за побеги убито 27 человек. Убежать же благополучно на моей памяти не удалось никому.
Лагерь смерти Штуттгоф
Из Моглина нас привезли в Псков, где погрузили в товарные вагоны, закрыли. Вагоны были набиты плотно людьми. Везли нас шесть суток. Всё это время нам не давали ни пить, ни есть. Мы лизали заиндевевшие головки болтов в вагонах. Пробовали пить свою мочу, но от этого становилось ещё хуже.
Привезли нас в концлагерь Штуттгоф, который находился в окрестностях Данцига в Польше, типичный фашистский концлагерь для уничтожения людей. Он был невелик по своим размерам: ещё строился. С одной стороны виднелись остатки вырезанного соснового леса, где корчевались пни и разрабатывалась площадка для расширения территории лагеря.
Концлагерь Штуттгоф был обнесён колючей проволокой на изоляторах, по проволоке пущен электрический ток. Неподалеку одна от другой стояли сторожевые вышки, окрашенные в зелёный цвет. Наверху всё было за стеклом и под крышей. В окошко вышки торчал пулемёт, у которого постоянно дежурил эсэсовец-немец.
Когда нас загнали на территорию лагеря, то остановили на улице и сказали, что нас пропустят через баню. В «баню» впускали по 2–3 человека. Там снимали все волосы, головы стригли наголо под машинку. После этого надо было мыться из крана холодной водой, без мыла и мочалки. Обслуживающий персонал, одетый в белые халаты, был из поляков. После мытья под краном чистоту проверял поляк. Какая могла быть чистота – без мыла и холодной водой? «Плохо вымывшихся» по одному ставили в угол и «мыли» из пожарного брандспойта, конечно, опять холодной водой. Человек кричал, но на это никто не обращал внимания.
Ещё когда я стоял на улице возле одноэтажного домика в очереди в «баню», меня толкнул Павел Николаевич из деревни Бабенцы и сказал: «Смотри, что здесь творится» – и повёл меня за угол дома.
Там стояла виселица. На ней висел мужчина лет сорока. А еще два мужских трупа лежали на снегу под виселицей. У них от долгого висения в петле оторвались головы. Головы лежали неподалёку от трупов. Кто эти люди были, мне выяснить не удалось.
Я прошёл «баню» так же, как и все, стоя под брандспойтом, после чего нас выгоняли на улицу совершенно голых и босых. Там мы тоже стояли в очереди за одеждой и обувью. Поляк, не торопясь, выдавал в окно одежду и деревянные выдолбленные колодки. На улице мне пришлось стоять, голому и босому, около часа. После получения одежды нас загнали в барак, где заставили рубашку и кальсоны помочить в какой-то белый раствор, выжать, затем – мокрые надеть на себя. Этот раствор убил всех насекомых. Всё это происходило 1 февраля 1944 года, т.е. в мой день рождения. На улице лежал снег. И снова выгнали на улицу, где мы ждали всех остальных из «бани».
Когда все прошли «баню», то нас пригнали в 17-й блок, где и разместили. Одну половину блока занимали поляки, вторую половину – мы. В число заключенных в Штуттгофе входили и французы.
Блок – это дощатый барак, который не отапливался, рамы его открывались целиком кверху. Вверху рамы были две петли и крючок, на котором держалась рама в открытом положении весь день, с подъёма до отбоя. Подъём был в 5 часов, отбой в 24 часа.
Каждому из нас выдали номер на белой тряпке. Кроме номера, там был ещё красный треугольник, в треугольнике – чёрная буква R. Красный треугольник – знак политического преступника, буква R – национальность (русский). Среди нас оказалось и три человека еврейской национальности.
Мой номер был 30955, а деда Лаврентия – 30954. Эту белую тряпку с чёрным номером надо было пришить на левой стороне груди. Для этой цели выдавали иглу с ниткой и непременно записывали номер человека, который иглу брал. Вот так иглу взял Осип Иванов из деревни Люцково. Когда он свой номер пришил, у него попросил иглу кто-то другой. Переходя из рук в руки, игла сломалась. Сдавать же её следовало только Осипу. Увидев сломанную иглу, начальник блока приказал нанести ему 25 ударов по обнаженным ягодицам. Наказуемый имел право выбора: хоть круглую резину, хоть круглую точёную дубину или дюймовую доску шириною около 10 сантиметров. Считать удары должен сам наказуемый вслух. Если закричишь – всё начинается сначала. Таковы были издевательские условия наказания.
Роль палачей выполняли поляки. Осип Иванов выбрал доску, думая, что будут бить широкой стороной и это будет легче. Наказуемого уложили вниз животом на скамью и начали бить доской, но её узкой стороной. На последних ударах Осип потерял сознание.
Начальником 17-го блока был поляк, выше среднего роста, молодой, лет около 35, чисто одетый, чисто выбритый, на ногах – до блеска начищенные ботинки. Чистили их заключённые.
Здоровенная злая морда начальника блока вызывала отвращение к нему. Он не мог спокойно говорить, всё время очень громко кричал и сильно ругался, брызгая слюной. Самым частым ругательством были слова «сталинский бандит». Их он адресовал и одному человеку, и сразу всем 450-ти заключенным. Начальник нам объяснил, что никакие жалобы ни от кого и нигде не принимаются (письма тоже).
У него было два помощника. Один надзирал над половиной блока, занятой поляками, а второй – над нашей половиной блока.
Нашего помощника звали Сашей. Он был из Латвии, бывший учитель. Этот человек представлял собой совершенную противоположность начальнику блока. Он был очень добродушным человеком, всегда настраивал нас так, чтобы избежать излишних издевательств над нами. В его обязанности входило быть вместе с нами с подъёма, т.е. с 5 часов утра, и до 24 часов. На обед отводилось всего полчаса. На улице мы должны были ходить строем по пять человек в шеренге и петь песни, все – кроме «Интернационала». Вот Саша и должен был смотреть за строем и чтобы песня не умолкала. Однажды начальнику блока не понравился наш строй, и он сам лично поставил Сашу так, чтобы ладони рук легли на коленки, и десять раз ударил сильно по ягодицам круглой дубиной, заставляя его считать удары, но штаны снимать не заставил.
«Вот видите, ребята, мне перепало из-за вас потому, что вы плохо держите строй», – сказал тогда Саша. Мы, конечно, старались соблюдать строй, чтобы его не подводить. Но сильное истощение бросало нас, заключенных, из стороны в сторону, особенно стариков.
В 24 часа была вечерняя поверка. При этом все стояли в строю, как всегда, по пять человек. Немцы проходили серединой лагеря около блока. Начальник блока давал команду на немецком языке: «Мютце аб!», что означало: «Шапки долой!» – и докладывал немцам о численности людей в блоке.
Шапки снять должны были все одновременно правой рукой и ударить о правое бедро так, чтобы получился один звук. Для этого делались тренировки.
Один пожилой мужчина, из Красногородского района, был глухой. Земляки звали его «Король». Во время тренировок ему все говорили, чтобы он не бил шапкой о бедро, а снимал ее тихо, без удара.
Во время одной из поверок после команды «Мютце аб!» послышался одиночный удар о бедро. Немцы прошли, ничего не сказав, но начальник блока, стараясь выслужиться перед фашистами, после их ухода начал гонять всех людей из нашей половины блока бегом вокруг барака, командуя: «Ложись, бегом и садись, сталинский бандит». После команды «ложись» надо было лечь на живот, протянуть ноги, держа их вместе, а руки положить на спину ладонями кверху.
Рядом со мною с левой стороны находился пожилой эстонец, ему было лет около 60, участник Гражданской войны. Одна нога после ранения у него не гнулась в колене. Я не помню, какая именно. Из-за этого он не мог уложить больную ногу ровно, она у него всегда была приподнята кверху.
Я вижу – бежит начальник блока, в руке держит полкирпича, останавливается около меня, замахивается, я невольно прикрываю голову руками. Но он ударил этим куском кирпича лежавшего рядом со мною этого инвалида-эстонца – прямо в голову. Увидев, что ударенный больше не шевелится, заорал: «Несите воды». Вылил ведра два холодной воды на голову инвалида, но тот в себя не пришёл. Так был убит эстонец, инвалид Гражданской войны. Его сразу же подобрали поляки и унесли на носилках в крематорий, который был неподалёку от нашего 17-го блока.
Кормили в Штуттгофе так: во время обеда давалось 0,5 литра варёной брюквы, она была в виде жидкой каши; перед отбоем давалось 50 граммов хлеба, 0,5 литра какого-то горького кофе, конечно, без сладостей. Вот и всё меню, которое за все время моего пребывания в Штуттгофе не менялось.
Рядом с нашим блоком был 16-й блок, где режим был такой же, как и у нас. Люди из этого блока здесь находились третий месяц. Лица у них были тёмными. Почти каждый день 1–2 человека там кончали жизнь самоубийством: подойдя к колючей проволоке, они брались голыми руками за неё, и их убивало электрическим током.
И вот однажды заключенный из этого 16-го блока кричит в нашу сторону: «Нилка, это ж ты? Как ты сюда попал?»
Нилка был из Красногородского района, деревня вроде бы Бодрёнки (или недалеко от неё). Нилка всматривался в этого человека, но признать его не смог. Тогда спрашивает его: «А ты кто такой?» А тот отвечает: «Я – Ященко, неужели ты меня не узнаёшь?» Лишь после этого Нилка узнал этого человека. Он был до начала войны председателем или секретарём Красногородского райисполкома. Он дошел до такого истощения, что сделался совсем непохожим на прежнего себя.
В Штуттгофе блок от блока отделялся колючей проволокой без электрического тока, и люди из одного блока подходили близко к проволоке и разговаривали с людьми из соседнего блока. Конечно, когда не видел начальник блока, т.к. это категорически запрещалось.
Совершенно ослаб и дед Лаврентий. Он уже не мог ходить в строю, его бросало в разные стороны. Здесь я не мог его поддержать ничем. Негде было чего-нибудь найти съедобного. Не было даже крыс. И вот деда Лаврентия отправляют. Начальник блока говорит, что в госпиталь. Но дед знал куда, ибо помощник начальника – латыш Саша – раньше ещё всем объяснял, что здесь нет никакого лечения, и как кто ослабнет – так его сжигают в крематории. Уходя, дед Лаврентий распрощался со мною.
«Как-то эти ироды – убьют его или живым бросят в крематорий?» – думал я.
Дед говорил спокойно. Вот его последние слова: «Савва, ты молодой, может быть, выйдешь живым из этого ада и вернёшься на Родину, так скажи там, где я остался». Мы распрощались с ним за руку. Каждый знал, что навсегда. На его глаза навернулись слёзы, но по щекам не текли. Я восхищался его спокойствием и мужеством.
Вернувшись на Родину, я рассказал про деда Лаврентия его племянникам, а дочь его мне до сих пор не пришлось увидеть.
Вместе с дедом Лаврентием был отправлен в крематорий и Никандр Петров из деревни Кострово.
Весь день, с 5 утра и до 24 часов, кроме получасового обеда, мы ходили строем около своего барака. Нас при этом заставляли петь песни. На ногах были деревянные колодки. Выданные старенькие носки быстро проносились от трения о дерево и песок со снегом, набивавшиеся в колодки.
Вокруг блоков всё было усыпано жёлтым песком. 450 человек походят взад-вперёд весь день по этому песку со снегом (небольшой мороз не позволял снегу таять), и получается жуткая смесь. Эта смесь песка и снега плотно набивалась в колодки. Носки через 2–3 дня истрепались так, что их все выбросили и ходили в этих деревянных колодках на босу ногу. Не успеешь вытряхнуть песок и снег из колодки, как набьются свежие.
За нами всё время наблюдал начальник блока. И если он видел, что недалеко от нашего блока проходят немцы, то гонял нас, командуя: «Бегом, ложись, бегом, садись, сталинский бандит!», притом в руках у него была дубина, которой он бил всех, кто ему попадался под руку. А сам всё смотрел в сторону немцев: видят ли фашисты его усердие в издевательствах над нами.
После 24 часов нас загоняли в помещение блока, где мы получали 0, 5 литра горького кофе и 50 граммов хлеба. Съев этот ужин, мы раздевались в прихожей, где клали на пол колодки, на них верхнюю одежду, свёрнутую так, чтобы сверху был виден номер. Всё это укладывалось рядами таким образом, чтобы между ними можно было пройти. После этого в одной длинной полосатой рубашке ложились спать. Каждый на своём месте.
Трёхъярусные нары-кровати были сбиты из досок, на них лежали матрас, набитый деревянными стружками, и летнее одеяло, подушки не было. Когда мы ложились спать, то окна закрывались, весь день до этого стоявшие открытыми. Температура внутри блока была такая же, как и на улице, т.к. он не отапливался.
На верхнем этаже нар, надо мною, было место Павла Ивановича из деревни Белоусы. Когда все засыпали и палачи-поляки заканчивали обход внутри блока, то я тихо перебирался к Павлу Ивановичу, забирался под его одеяло, мы с ним обнимались – оба холодные, как лягушата, так и лежали, потом засыпали, и лишь к утру согревались наши тела друг от друга и от дыхания под одеялом. Перед подъёмом я спускался на своё место. Там было застлано одеяло так, как будто на этом месте никто не спит (места свободные были на некоторых нарах). Ведь если бы обнаружили, что я перебирался спать к товарищу, то моя участь была бы такая же, как и у инвалида-эстонца, о котором я рассказал выше.
Здесь у каждого из нас в большом количестве появились фурункулы.
Должен сказать, что Павел Иванович – один из немногих пожилых людей, которые остались в живых и вернулись на Родину. Жил он после войны в родных Белоусах.
Во время подъёма утром в дверях стояло два палача-поляка с дубинами, они поочерёдно били дубинами тех, кто им попадался под руку. Очень редко кому удавалось ускользнуть от дубины. После чего мы одевались и – бегом на улицу, где опять начинался день, т.е. ходить строем по песку со снегом и петь песни (как я уже говорил, не дозволялся только «Интернационал»).
Хотя из Штуттгофа убежать было совершенно невозможно, но мысль из головы об этом никогда не уходила. Однажды пришёл начальник блока и сказал, что надо десять человек – отнести табуретки вон в тот дом, что находится по ту сторону колючей проволоки, т.е. вне территории лагеря. «Кто пойдёт добровольно?» – спросил он. Вызвалось много людей, в том числе и я. Ведь каждому хотелось выйти за проволоку. Он выбрал десять человек (и меня тоже).
Мы взяли по две табуретки, и два автоматчика-эсэсовца повели нас к этому домику. Домик был одноэтажный, с острой красной черепичной крышей. Он находился метрах в двухстах от колючей проволоки, окружавшей лагерь, и в противоположной стороне от крематория, если смотреть от 17-го блока.
Мы все зашли в комнату, и с нами два эсэсовца-автоматчика. Пол комнаты был дощатый, в левом углу её, по диагонали от двери, уже лежали такие же табуретки, какие принесли мы. Мы тоже сложили принесённые табуретки в тот же угол. Рядом с табуретками было две деревянных приступки, напротив которых – дверь, ведущая в другую комнату. Из этой двери вышло два здоровенных мужчины в белых халатах и с ними молодая женщина, не старше 35 лет, она была в гражданской одежде. На плечах – чёрный жакет и белая кофта, без головного убора, брюнетка. Она сказала по-немецки своим спутникам, что нужны три здоровых мужчины. Они отобрали троих человек из нас, повыше меня ростом и поздоровее телосложением и, указав на дверь, у которой было две приступки, повели этих людей в другую комнату; зашли сами, зашла и эта молодая женщина. Дверь закрыли. Нас 7 человек и два автоматчика остались в первой комнате.
Из любопытства я вскочил на эти приступки, открыл дверь и встал на пороге.
Сразу же на меня заорал один здоровяк, и я повернул назад. Затем он что-то сказал нашему конвою, и нас семерых повели обратно в лагерь, а трое остались там.
В комнате, куда я заглянул из любопытства, с правой стороны стоял длинный, наклонный деревянный стол, обитый сверху железом. На столе были видны следы крови. А как только мы стали уходить, то из той комнаты, где остались три наших человека, послышался сильный, душераздирающий крик.
Из моих земляков со мною носил табуретки и Павел Николаевич из деревни Бабенцы. Мы поняли, что здесь творится что-то подлое. Я потом спросил у Саши-латыша, что там происходит.
Саша мне ответил, что в этом домике выделывают человеческую кожу. Вот таким обманным путём палачи заводили к себе нужное количество жертв.
Мы пробыли в Штуттгофе примерно месяц или немного больше. И вот однажды нам и говорит Саша-латыш, что будут отправлять куда-то на работу. «Для этого будет так называемая комиссия отбирать физически пригодных к работе: пойдут строем – по пять человек – все блоки перед немцами, а они будут выбирать людей, ещё способных работать. А ваша половина 17-го блока меньше других пробыла в Штуттгофе, и поэтому вы будете покрепче остальных. Постарайтесь не шататься, не падать, и вам будет дана возможность попасть на работу, а там, может быть, лучше будут кормить, либо можно будет убежать. А для тех, кто здесь останется, выход отсюда только один». И он указал на трубу крематория, из которой шёл дым.
И вот наша половина 17-го блока прошла лучше других блоков. У нас никто не упал, мы старались не держаться друг за друга и поэтому всех нас – 450 человек – отправили из Штуттгофа на работу.
Перед отправкой каждому давали анкету, в которую записывался концлагерный номер и ставился отпечаток пальца. Затем анкету отбирали. До этого каждого взвешивали на весах. Мой вес был 42 килограмма вместе со всей одеждой и с деревянными колодками. Сашу-латыша с нами не отправили. Не отправили и трёх человек еврейской национальности.
Неподалёку от лагеря была узкоколейная железная дорога, где стояли небольшие платформы. Вот нас и погнали к этим платформам эсэсовцы. Гнали бегом, били палками, натравливали на нас собак-овчарок. Я вскочил на платформу и услышал крик о помощи. Оглянулся – и увидел земляка Петра Егоровича Егорова из деревни Бабенцы. Он карабкался на платформу, а овчарка, вцепившись в его ногу зубами, держала его. Я взял за руку Петра Егоровича и помог ему влезть на платформу. Собака искусала ему ногу. О лечении, конечно, не могло быть и речи.
Пётр Егорович был отцом Алексея Егорова, который ушёл добровольно с гулянья в деревне Клюкино в спецгруппу «Борец» майора К.Д. Чугунова.
С этого момента мы договорились с Петром Егоровичем держаться вместе, чтобы можно было помочь друг другу.
По узкоколейке нас привезли в Штуттгоф, по ней и отвезли на станцию, где погрузили в товарные вагоны, плотно набив их людьми так, что было негде сесть. Люди всё время стояли. И так нас везли опять шесть суток, не давая ни пить, ни есть.
На каторге во Франции
Наконец наш поезд остановился днём на какой-то небольшой станции. Кто-то посмотрел в окно и говорит, что буквы есть какие-то написанные. Я попросил, чтобы меня подсадили к окну. Увидел постройку в виде ларька, где было написано: «France <...>». Я сказал всем, что нас привезли во Францию.
По рельсам у станции маневрировал паровоз. Во всех вагонах поднялся крик: «Воды, воды!!!» Дверь в вагоне приоткрылась, и французы стали в вёдрах носить нам воду из тендера паровоза. Немцы вынуждены были разрешить – требовали французы. Воду наливали в деревянные колодки. И пили сразу. Я выпил четыре колодки сразу и две ещё налил про запас, которые выпил немного позднее. После этого нас повезли ещё дальше, но везли недолго.
Остановились и стали выгружаться. Дверь вагона открыта была полностью. Люди прыгали и падали тут же от истощения. От выпитой в большом количестве воды мне стало плохо, и я упал на пол вниз животом. В вагоне стало уже свободнее. Немцы вскочили в вагон с противоположной стороны от меня. Я слышал их ругань, выстрелы, но подняться не мог. Таких они пристреливают. В это время меня взял под живот одною рукою Пётр Егорович, другою рукою он упирался в стенку вагона, чтобы не упасть самому. «Поднимайся быстрее, а то пристрелят», – торопил меня Пётр Егорович, а сам изо всех сил, имеющихся у него, старался помочь мне подняться.
Здесь нас разделили на четыре части. Из близких земляков был со мною только Пётр Егорович. Много со мною было товарищей из Красногородского района.
Нас привезли в город Амьен, из города в посёлок Салё – в 6–7 километрах от Амьена. Это недалеко от Ла-Манша. В нашей группе оказалось 102 человека. Остальных развезли по разным местам в районе Ла-Манша.
Разместили нас в одном из зданий бывшей фабрики, приспособленном под тюрьму. Размещение происходило так: нас в помещения загоняли палками. Я шёл позади Петра Егоровича, но его загнали направо на первом этаже, а передо мною немец развернулся и дубиной погнал меня на второй этаж прямо, а за мной и остальных. Я оказался на втором этаже вместе с товарищами из Красногородского района, а Пётр Егорович был внизу. Ведь там было так, что не выберешь сам, с кем поселиться и рядом лечь спать, а куда загонят дубиной, там и будешь.
В Штуттгофе нас били хуже, чем скотину, и здесь было то же самое. Вернувшись на Родину и живя в Барсанове, мне иногда приходилось сдавать свинью или теленка в «Заготскот» в Опочке и наблюдать за погрузкой скота в машины. Там тоже без битья не обходилось, но всё это ни в какой степени не идёт в сравнение с тем битьём, которому подвергались мы. Это был ужас.
Нары были двухъярусные, матрасы из бумажной мешковины, набитые деревянной стружкой, без подушки, и летнее старое одеяло, т.е. почти так же, как и в Штуттгофе.
Ночь переспали, утром нас погнали на работу. Охрана была из немцев, вооружённых автоматами. До места работы было всего метров 500. Здесь проходила впадина, похожая на древнее русло реки, на высоком берегу которой мы и работали. Снизу с берега вглубь, под уклоном, шли штольни, и когда они доходили до глубины 70 метров, тогда сверху, напротив штольни, копалась вертикальная шахта, которая внизу встречалась со штольней. И таких штолен и шахт было сделано 12 или 14 пар. Хорошо не помню, какие между собой соединялись на глубине 70 метров подземным продольным ходом шириною 3 метров и высотою более 2 метров. Этот подземный ход проходил параллельно берегу на длину около 800 метров. Налево и направо по этому ходу делались комнаты. Грунт состоял из сплошного мела. Вывезенный наружу мел куда-то отвозился автомашинами. Внизу, вдоль берега, у начала штолен проходила узкоколейная железная дорога, по которой мотовоз в вагонетках отвозил этот мел для погрузки в автомашины. Узкоколейка сверху была замаскирована. Погруженный в машину мел сверху покрывался зелёной краской. Это, видимо, делалось для того, чтобы самолёты-разведчики союзников не могли обнаружить место этих работ. Мы понимали, что здесь строится какой-то секретный военный объект и нас, концлагерников, привезли сюда для того, чтобы построить его, а затем всех уничтожить.
Вся зона строительства сильно охранялась. Наверху был навес, где находилось около двух десятков собак-овчарок, которые и сторожили этот объект. Сюда мы прибыли где-то в первой половине марта 1944 года. В первые дни прибытия на эту стройку я пытался убежать, но меня поймали, и я был очень жестоко избит. Подробнее об этом я напишу ниже. Была у меня и ещё одна попытка убежать, позднее, но, к сожалению, тоже безуспешная.
Кормили здесь почти так же, как и в Штуттгофе, т.е. варили брюкву, только что разница была в том, что здесь её варили в виде супа, а не каши и давали её один литр во время обеда, а на ужин опять 0,5 литра горького кофе. Хлеба давалось немного больше, чем в Штуттгофе.
Работать в шахтах и штольнях заставляли по 16 часов. И от этого питания и каторжных работ все были опухшими, у всех шатались зубы, из дёсен шла кровь – это была цинга. Выходных дней у нас не было.
На кухне работали две женщины-француженки. Среди нас оказался один медик – Иван Трофимович. Это был военный врач в чине майора, попавший в плен на фронте. Он неоднократно бежал из лагеря военнопленных, но его поймали, за что и отправили в концлагерь Штуттгоф. Его иногда немцы на работу не посылали, и он лечил наших больных людей. Но медикаментов, кроме йода и бумажных бинтов, у него не было. Заболел однажды я, так Иван Трофимович попросил француженок, работающих на кухне, и те принесли таблеток, и я поправился. Иван Трофимович был очень чутким и вежливым человеком и чем мог помогал.
От тяжёлых каторжных работ и концлагерного питания вскоре стали люди умирать. Для захоронения немцы привезли один крашеный под дуб гроб. В нём и вывозили умерших людей хоронить, но в могилу клали без гроба, а гроб везли обратно в нашу тюрьму, где он постоянно и стоял. Работы по захоронению выполняли наши концлагерники и, конечно, под усиленной охраной. Гроб этот нужен был для того, чтобы французы видели: вот, мол, как хоронятся заключённые, так как ехать приходилось по посёлку, и народ это видел. К месту захоронения никого близко не подпускали.
Стало теплее, подросла трава. И недалеко от одной из штолен я нашёл метра четыре квадратных, поросших щавелем. Наелся сам и принёс Петру Егоровичу, он ослабел сильнее меня. Но недолго носил я этот щавель, за мною подсмотрели другие, где я его беру, и подчистую опустошили это место.
Петру Егоровичу стало хуже, и с работы ему одному было не прийти. Я оставался и помогал ему дойти до тюрьмы (нас, конечно, охранял автоматчик). Вскоре Петра Егоровича и ещё нескольких совершенно ослабших людей оставили в тюрьме, так как они еле передвигались; на работу их не выгоняли.
Был у нас один заключённый по фамилии Верецун, звали его Фёдор. Я находился с ним в одном помещении, где все были из Красногородского района. Этот Верецун служил раньше младшим лейтенантом на границе, когда Латвия была буржуазной, проживал в Красногородске. Кажется, такой человек должен оставаться в любой обстановке патриотом своей страны и вообще быть порядочным человеком. Но из него в тяжёлом положении, в каком оказались все мы, получилось совсем другое. Он втёрся в доверие к немцам, особенно к ключнику Отто, который закрывал на ключ нас на ночь и бил нас беспощадно. На шахты и штольни Верецун сходил первые несколько дней. Сперва работал с француженками на нашей кухне, а потом стал поваром у немцев – готовил обеды нашей охране и этому ключнику Отто.
Он до того втёрся в доверие к немцам, что ходил без конвоя. Часто приходил к нам на шахты и штольни – посмотреть, сколько мы сделали. Если я помогал прийти с работы Петру Егоровичу, так как ему одному не дойти, и нас двоих охранял автоматчик, то Верецун, здоровый как бык, ходил свободно без охраны и никуда не убегал. Это был натуральный фашистский холуй. Что его сблизило с этим ключником? Это, как мне кажется, их внешнее во многом сходство. Оба они имели большие отвисшие уши, приросшие к вискам почти под прямым углом. Правда, у немца уши были немного больше, чем у Верецуна, но сходство было значительное. Когда они орали на кого-либо из заключённых, то их широкие рты расползались почти до ушей – что у одного, то и у другого. Когда ключник Отто бил кого-либо из наших людей, то Верецун сперва ругал этого человека, а потом бил его. Чаще всего Верецун показывал на кого-либо пальцем, и этот человек жестоко избивался ключником. Про него говорили, что если бы он знал хоть сколько-нибудь немецких слов, так нам всем от него была бы погибель. Но он и на пальцах показывал так, что ключник понимал его сходу. Он был здоровенный, рукава рубашки у него были всегда закатаны, и были видны его здоровенные руки, куда толще, чем ноги каждого из нас в то время, кроме тех, у кого они были опухшими.
Однажды вечером после работы я услышал крик на первом этаже у самой лестницы, идущей на второй этаж, к помещениям, где я спал. То орал Верецун и избивал моего больного земляка Петра Егоровича. Я стал кричать: «Что ты делаешь, подлец, ведь у него сын в партизанах, а ты его бьёшь, сволочь проклятая!» Верецун поднял голову кверху и заорал на меня: «Замри, а то и тебе это будет!» Вмешаться физически я не решился, так как это было бессмысленно, ибо Верецун не только со мною одним справился бы легко, но и со всеми вместе взятыми. На помощь мне подошёл Нилка, что из деревни Бодрёнки Красногородского района, и тоже стал говорить Верецуну: «Федька, запомни, если мы вернёмся на Родину, то ты Барсановский мост не перейдёшь и не переедешь за этого человека, что ты избил». Вступились ещё многие люди, и Верецун бросил избивать Петра Егоровича. Когда я подошёл к нему, то он не только не мог кричать, а даже не говорил, только беззвучно шевелил губами. До того его избил Верецун. Я поднял его, поставил на ноги и повёл на место, где он спал, помог ему лечь на нары, постоял немного возле него, поговорил, проклиная этого Верецуна, и пошёл сам спать.
Утром, выгоняя нас на работу, ключник всегда выстраивал и считал нас. Я обратил внимание, что Петра Егоровича нет на улице, побежал к его нарам, а он был мертв. Так умер мой земляк – Пётр Егорович, в ночь с 14 на 15 мая 1944 года.
Ключник отбирал людей хоронить Петра Егоровича. Попросился и я, сказав ключнику, в первый раз за время моего нахождения здесь, два слова по-немецки, а именно: «Майн онкель», что означало – «мой дядя», хотя Пётр Егорович не был мне дядей, но я думал, что как родственника меня возьмут на кладбище. Ключник, услышав эти слова, вытаращил на меня свои огромные бесстыжие глаза и проговорил: «Ганце фамилие ист хиэр» – то есть «вся семья здесь» и начал избивать меня дубиной, которая почти всегда была у него в руках. Поодаль стоял Верецун, он весело смеялся, ему было радостно, когда меня избивал ключник. Так я не попал хоронить Петра Егоровича. Его, как и других умерших, уложили в тот же крашеный гроб и увезли на кладбище. Пустой гроб был привезён обратно в нашу тюрьму, как и всегда. Я расспросил, где его похоронили.
В первые дни прибытия на этот объект работал и Верецун на шахтах и штольнях. Однажды работали на штольне. Верецун грузил глыбы мела на вагонетку, стоявшую на узкоколейке, для транспортировки его к автомашинам. Я выбрасывал эти глыбы из штольни и бросал Верецуну, мне их бросал другой человек, и так по цепочке они подавались наверх. Я специально пристроился работать у входа в штольню, чтобы удобнее было убежать. Цель была найти французских партизан. Я бросил работу на штольне, вышел наверх, там работали люди – разматывали маскировочные маты. Постоял немного около них и пошёл в кусты, что росли на склоне. Кустарник был небольшой, и ещё не было листьев. Немного прошёл я по кустам, как слышу – кричит немец, но не охранник, а он был начальником над работающими здесь немцами из военной строительной организации Тодта, бежит с дубиною в руке и отстёгивает пистолет. Бежать было некуда. Я вынужден был остановиться. Вернее, не бежать, а уходить, так как бегать я был не способен физически. Он догнал меня и стал очень жестоко избивать дубиной. Он гнал меня опять к штольне и всё время бил. Я прикрыл голову руками, он бил по рукам дубиной и отбил мне ноготь на пальце левой руки. Ноготь немного ещё держался на пальце, а кровь залила мне голову и лицо. Наконец он избил меня до такой степени, что я упал и не мог двигаться, бил и лежачего, сколько, ему хотелось, я не кричал. Мне были отбиты коленки, и я долго плохо ходил. Тогда немец взял меня за шиворот и волоком потащил к штольне, откуда я сбежал. Притащил и бросил.
Очнувшись, я увидел большую кучу камней на том месте, где я стоял. Ведь никто их не отбрасывал, и штольня временно не работала. Из пальца шла кровь, я сорвал ноготь совсем, оторвал карман от штанов и, завязав им искалеченный палец, начал бросать камни. Подошёл Верецун, ругал меня за побег и грозил, что если это повторится, то он скажет, чтобы мебя застрелили. Он и не скрывал, что выдал меня немцу.
Изо всей нашей сотни отыскался один такой – этот Верецун, который стал холуем у фашистов.
У меня в 1941 году была закончена Опочецкая средняя школа № 1, где изучался немецкий язык. Я мог немного объясняться с немцами, но когда они искали переводчика среди нас, я не показал виду, что знаю немецкий. Бывало, немец скажет нести лопату, я несу ему кирку, и наоборот. Немец поставит указательный палец правой руки у своего виска и крутит им, показывая этим, что у меня отошли шурупы.
В штольне выбранные проёмы с боков крепились деревянными стойками, а сверху обрезными досками, уложенными на балки. Когда штольня соединялась с вертикальной шахтой, то грунт выбирался, и образовавшийся горизонтальный подземный ход соединял все шахты и штольни. Грунт грузился вручную на вагонетки, и по рельсам вагонетка катилась вручную до поворотного круга у штольни, где она разворачивалась, зацеплялась тросом, и по рельсам лебёдкой её тащил двигатель наверх.
Как-то я вышел в свободную минуту наверх к лебёдке с двигателем, там никого не было. В ящичке лежали гаечные ключи. Увидел, где крепится двумя болтами конец троса на барабане лебёдки, быстро ключом ослабил немного этот болт и сам опять спустился в штольню и продолжил работать. Нагрузили вагонетку, подкатили её к поворотному кругу, развернули, зацепили тросом и там наверху её потащили лебёдкой. Вагонетка дошла почти до самого верха, и в этот момент конец троса выскочил оттуда, где его крепили два болта. Вагонетка с бешеной скоростью понеслась вниз, разнесла вдребезги поворотный круг, погнула рельсы, разбила всю закрепленную стойками стенку, а из самой вагонетки получился кусок металлолома. Немцы даже не подозревали о том, что болты были ослаблены специально. Почти весь день эта штольня не работала, пока немцы не восстановили всё и не заменили поломанное. У меня от этого было радостно на душе.
Здесь работали немцы из строительной организации Тодта, они давали нам иногда передышку. В это время я выбирался наверх и всё изыскивал путь к побегу, но охрана была очень сильная, и уйти было невозможно. Наверху стоял дощатый барак, покрашенный зелёной краской, там жили охранники, а рядом с ним, параллельно бараку, устроили навес, под которым находились собаки-овчарки, их было более двух десятков. Под навесом были зашиты досками продольные стенки на высоту немного более одного метра от земли – стойки, связь сверху, да крыша, а торцовые стенки были открытыми. Навес тоже был покрашен в зелёный цвет, как и его крыша.
Я высмотрел, что у собаки, привязанной у края навеса, в ведре остался недоеденный гороховый суп. Он уже не супом стал, а густой кашей. Из-за досок, тихо подобравшись, я схватил ведро с этой кашей, а сам опять спрятался за доски навеса. Овчарка меня ухватить не успела. За углом я встал во весь рост и, рукою загребая эту кашу из ведра, понёс её в рот. Но недолго я лакомился собачьими объедками, не более трёх горстей этой каши я проглотил. Сильный удар по голове сзади сшиб меня с ног. Очнувшись, я увидел, что ведро с вытекшей кашей лежит на боку, а рядом – расколотое берёзовое полено, шириною около 10–12 сантиметров. Вот этой плахой немец и ударил меня по голове. Я не сразу пришёл в сознание. Когда я поднялся, то около меня немца не было. Он, видимо, решил, что убил меня, и ушёл в барак.
Я побежал к склону берега, из барака выскочил немец и помчался ко мне с поленом. Я подумал: добьёт, фашист проклятый. Но тут вдруг мне пришло в голову, что нужно ложиться набок вдоль крутого склона берега и так катиться до самого низу, это будет намного быстрее, чем спускаться на ногах. Деревья на склоне были вырезаны и кусты вырублены сразу после моего первого побега. Была, конечно, опасность поломать рёбра о пни, но выхода другого не представлялось. И покатился я вниз по крутому склону, как круглая чурка дров. Фашист бросался в меня камнями в кулак величиной и более, но не попал ни разу. Не ударился я о пень и боком, не поломал рёбра. Хоть в этом посчастливилось, думал я.
Когда я уходил за собачьими объедками, то сказал об этом кое-кому из ребят, работавшим со мною в штольне. Они вышли, наблюдали за мною и говорили, что «если у тебя пройдёт всё удачно, тогда пойдём и мы». Скатившись со склона, я поднялся на ноги, подошёл к ребятам, фашист сюда не пошёл. Ребята меня спрашивают: «Ну как, вкусный собачий суп?» Они видели всё. А мне было не до смеха. Зелёные круги ходили перед глазами, то приближаясь, то удаляясь, в голове всё гудело.
Пошли в штольню, начали работать, понемногу я в себя пришел полностью и стал смеяться вместе с ребятами над происшедшим. Они мне сказали, что, заметив меня, немец вышел из барака с берёзовой плахой и, держа её в обеих руках, ударил меня по голове сзади. Я упал. Немец постоял немного возле и пошёл в свой барак. Более пяти минут я лежал, потом поднялся. Это я узнал от моих товарищей по штольне.
Однажды вечером после работы ключник выбрал нескольких человек разгружать машины с цементом, но это не на нашем объекте, а километра четыре в сторону. Попал и я туда. Разгрузили цемент, поехали обратно. Рядом с дорогой лежала кормовая свекла, раскрытая из буртов. Мы попросили сопровождавших нас немцев остановиться, чтобы набрать свеклы. Эти немцы были не из нашей охраны, и они разрешили нам взять немного свеклы и несколько картофелин.
Как только мы зашли во двор тюрьмы, ключник приказал всю свеклу сложить у дверей кухни. У меня были запрятаны одна длинная, но тонкая свекла под гашник штанов и одна картофелина в нагрудном кармане пиджака. Ключник нас поставил в ряд и начал обыск. У меня он не нашёл ничего. Нашёл у одного товарища, которого звали Степаном. Степан был сибиряк, военнопленный, бежавший из лагеря военнопленных, и пойман во время побега, за что и был отправлен в концлагерь. У Степана были штаны с резинками внизу, и он в каждую штанину спрятал картошку. Ключник это нашёл, заставил высыпать картофель, а Степана жестоко избил.
Два дня нам варили кормовую свеклу, конечно, на одной воде, а картофель ключник забрал на свою кухню. Вот так за всё время было изменено наше меню. Вместо брюквы варили два дня кормовую свёклу. И два дня подряд после работы этот ключник заходил в помещение тюрьмы и снова избивал Степана. В последний раз он вытащил немецкий штык, который всё время носил на ремне, и стал его бросать в Степана, как в мишень. В грудь не попал, а попал остриём в бицепс правой руки – руку проколол насквозь. Степан вытащил штык из руки. Мы закричали: «Степан, коли его, гада. Всё равно смерть!» Степан отдал штык ключнику и сказал нам, что левой рукой ему с ним не справиться, да и пистолет у него на боку. Из руки текла кровь. Завязать можно было только куском одеяла. И с такою рукою Степан ходил на работу. Потом ему сделал перевязку Иван Трофимович.
Пригнали к нам на объект и наших советских военнопленных – 200 человек. Их кормили намного лучше, чем нас. Суп им варили с вермишелью и картофелем. Делалась даже заправка луком, поджаренным на маргарине. Их поселили в помещении, которое было рядом с нашей тюрьмой. Я иногда заходил к ним, они даже не доедали суп и отдавали его мне. Выглядели они нормально – опухших среди них не было. Они говорили, что есть приказ – военнопленных кормить лучше, чем в 1941 году, но концлагерники под него не подходят. Они недолго работали на нашем объекте – потом их куда-то увезли.
Потом пригнали немцев-заключённых – 500 человек. Это были немецкие коммунисты, солдаты, бежавшие с фронта, и другие со сроком не менее 10 лет. Общаться с ними нам не разрешалось. Поскольку немцев-заключенных сопровождала охрана, наш объект стал охраняться ещё сильнее. Этих заключённых кормили также лучше, чем нас – тоже давали им суп с вермишелью и даже с кусочком маргарина. А для нас – брюква и вода – одно меню.
Один раз, вскоре после прибытия сюда, нас на автобусе повезли в баню в город Амьен. Баня была кем-то занята, и мы с полчаса стояли на улице. Перед баней была большая площадь. Как быстро и много собралось французов на эту площадь – около тысячи человек. Все они поднимали правую руку кверху со сжатым кулаком, выкрикивая слова: «Рот фронт!», «Виват Сталин!», и бросали нам еду – батоны, намазанные маслом или маргарином, колбасу ливерную и даже мясную. Всё это мы хватали и старались сразу съесть как можно больше, поскольку знали, что как только нас загонят в баню, то отберут всё. Это при французах немцы раздобрились и разрешили брать еду. Так и получилось. В бане сразу же всю еду отобрали, и мы наложили большой угол хорошей пищи, которой не пришлось больше видеть до самого освобождения.
Французы на площади ждали, пока мы помоемся. А нас после бани посадили в автобус и увезли. Больше нас в баню не возили ни разу, так как немцы боялись, что в другой раз к нам могут лететь не батоны и колбасы, а автоматы и винтовки.
О побегах мечтал каждый. И только в первые дни пребывания на этом объекте убежали два человека. Затем немцы усилили охрану, и хотя попыток убежать было много, но никому не удалось этого сделать.
За время нахождения в концлагере мне довелось встретить немца, проходившего службу в военной строительной организации Тодта. Военные строители также работали в штольнях и шахтах. Они ездили из города на работу автобусом.
Однажды этот немец привёз мне кусочек хлеба и стал со мной разговаривать. Он упоминал наших русских известных писателей и поэтов –Пушкина, Гоголя, Льва Толстого, Некрасова и других. Я ему сказал, что я родился и проживал примерно в 50 километрах от села Михайловского, где жил Пушкин. Он знал и об этом селе. Не фашист и не коммунист, он просто был очень грамотный, начитанный, гуманный человек. Я познакомился с ним вскоре после смерти Петра Егоровича. Его поддержка хлебом во многом помогла мне. Но не больше месяца пришлось мне работать с ним.
Однажды он приехал на работу расстроенный, сперва всё молчал. Я его спросил, почему он в таком плохом настроении. Он мне ответил, что его и многих других отправляют на наш советский фронт, и не в строительную организацию, а солдатом в действующую армию. Он плевался и ругался и, наконец, сказал, что немецкие войска повсюду отступают, а наша армия победоносно идёт вперёд и закончил словами: «Гитлер капут!» Он со мною говорил, когда никого около нас не было. И ещё сказал: «Сталин – гут!»
Мне стало ясно, что близится час разгрома фашистов. Это было в начале лета 1944 года. Я ему посоветовал при встрече с нашими войсками поднять руки вверх и сдаться в плен. Он одобрительно кивал головой неоднократно, произнося: «Я, я, я, я, я!», то есть «да, да, да, да, да!». Было ясно, что он за фашистов воевать не будет.
Он уехал, и мне больше ниоткуда не перепадало хлеба.
О том, что мне рассказывал немец, я сообщил только некоторым надёжным товарищам, опасаясь Верецуна, поскольку он мог донести на меня ключнику. И настроение поднималось у всех, кто про это знал.
Этот же немец сказал, что скоро, возможно будет высажен десант наших союзников здесь, на Ла-Манше, одновременно он предупредил меня, что фашисты могут уничтожить нас, концлагерников, в случае своего отступления или окончания работ. Говорил о том, чтобы я был бдителен.
За всё время нахождения в концлагере мне только один раз пришлось встретить такого немца. Звали его Генрих. Я его в шутку называл Генрих Гейне, на что он всегда улыбался. Он декламировал некоторые стихи этого немецкого поэта.
И так мы продолжали этот каторжный труд по 16 часов в сутки и на одной брюкве. У меня ноги были опухшими до колен. А у кого опухоль поднималась выше колен, то такой человек долго не жил, через месяц-полтора он умирал. Мы работали всё время без выходных дней. Только раз, когда немецкая пасха совпала с первомайскими праздниками, весной 1944 года нам дали выходной – один день за всё время. Мы выколачивали пыль из одеял, мыли полы в тюрьме.
Освобождение
В конце августа 1944 года мы стали слышать далекие отзвуки орудийной стрельбы. Стрельба была слышна с запада, то есть со стороны Ла-Манша. Это союзники высаживали десант. Вскоре звуки орудийной стрельбы стали громче, то продвигались вперед наши союзники – англичане и американцы.
Меньше, чем за неделю до освобождения, всех нас погрузили на машины и повезли в город Амьен. На окраине города стояло пустующее помещение какого-то завода. Здесь нас высадили. Вся наша охрана осталась при нас и стала охранять это помещение. Оно было обнесено высоким забором.
Здесь находились наши русские люди, насильно вывезенные сюда на работу. До нашего прибытия охраны тут не было никакой. Те, кто здесь находился, имели документы, им за работу платили деньги. Ходили они без охраны. Здесь я встретил своих земляков из деревни Бабинино и дядю Павла из Опочки. Они меня стали усиленно подкармливать.
Кормили здесь не брюквой, а сушёной капустой. И хлеба давалось больше, чем раньше, да и земляки помогали питанием. Здесь я стал наедаться, хотя по-прежнему все время хотелось есть. И еще я весь был в лохмотьях, ведь ходил в том, в чем приехал из Штуттгофа.
Когда меня привёл дядя Павел (глухой) опочецкий к землякам из деревни Бабинино, то я увидел у одного из них, по имени Илья, раскрытый чемодан, где лежали бельё и одежда. В руках он держал и показывал другим купленный костюм, который он тоже уложил в чемодан. Мои лохмотья были связаны тонкой телефонной проволокой, чтобы не развалились совсем. Я всё думал, что Илья даст мне что-либо надеть, но нет, его мучила жадность, и он всё спрятал, а сам разглядывал меня и насмехался над моей одеждой.
Все бабининцы с удивлением смотрели на меня и спрашивали: «А почему ты такой?» Они, вероятно, сперва подумали, что я пьяница и пропил всё. Я ответил землякам, что не один я такой, а все такие, кто был вместе со мною. И что я – концлагерник, а не насильно вывезенный, как они.
Спать ложились на соломе, на полу, и я спал неподалёку от земляков. Утром нас погнали на работу. В воротах стояла охрана и проверяла документы, которые были у насильно вывезенных, а нас опять построили и в окружении автоматчиков погнали на окраину города копать окопы.
Работали мы возле одноэтажного домика, хозяин которого куда-то выехал, забрав с собою всё нужное. На полу в доме валялись старые вельветовые галифе и сильно поношенные полуботинки. Я спросил охранника, можно ли мне переодеться, он разрешил, и я сменил на галифе свои изодранные штаны. А главное, оставил колодки и обул старые полуботинки. Галифе мне были велики, полуботинки тоже, я в них выглядел смешно, но хоть не было видно голого тела. Пиджак с концлагерным номером охранник не разрешил бросить, хотя он и был рваный. Концлагерный номер следовало сохранить.
С работы нас вели тоже под охраной автоматчиков. Насильно вывезенные шли свободно по городу, заходили в магазины, покупали, что нужно было. Как я им завидовал! Мне бы здесь такую свободу, разве я не нашёл бы тогда французских партизан?.. Это было моей целью № 1.
Три или четыре дня нас под охраной гоняли на работу. Стрельба слышна всё ближе. И вот рано утром, ещё до восхода солнца, послышался взрыв наверху от нас, где мы спали. Мы думали, что упал снаряд. Побежали смотреть. Оказалось, там был небольшой склад, и немцы его взорвали, а сами сбежали. Мы в этом складе нашли десятка полтора немецких винтовок, порядочно патронов и несколько ручных гранат. Всё это забрали. Дело у нас, концлагерников, доходило до скандала, так как винтовок всем не хватало. Интересно отметить, что ни один из насильно вывезенных не взял оружия.
Мне досталась винтовка. Здесь же я нашёл синий комбинезон, сбросил галифе и надел его наверх, а также и сапоги. Они оказались разных размеров и на одну ногу – один нормальный по моим ногам, а второй большой. Но налезли хорошо.
В таком виде я выскочил на улицу, где уже лежали наши концлагерники вдоль канавы с винтовками, лёг и я вместе с ними. Верецуна, конечно, не было вместе с нами. Теперь для него мы были весьма опасными. Да я его больше здесь вообще не видел. Либо он прятался, либо остался там, в посёлке Салё. И так мы лежали в канаве около здания завода с винтовками.
И вдруг из-за поворота слышим шум моторов. Идут танки. Люки были открыты. Это шли английские танки. Мы выбежали к дороге с винтовками и стали приветствовать танкистов. Несколько танков остановилось около нас. Танкисты вышли из машин. Мы им говорили два слова: «Рус, Сталин». И, делая из пальцев решётку, показывали им, что мы заключённые. Танкисты обнимали нас, а мы – их, они угощали нас шоколадом и сигаретами. Потом они пригласили нас садиться на их танки и ехать в город Амьен. Мы охотно согласились, устроились, кому где можно было, на танках и поехали в город. Это было 31 августа 1944 года.
В городе немцев уже не было, и танки остановились около прибывших туда ранее. К нам подошла группа вооружённых винтовками французов, и один из них указывал пальцами на косогор за городом и говорил: «Бош, бош!» Бошами французы звали немцев. Мы присоединились к этой группе, и они повели нас в сторону, где видны были окопы. Там сидели немцы, но их было немного. Мы устроились за сплошными бетонными перилами небольшого моста, за домами и повели стрельбу из винтовок по окопам бошей. Немцы выскочили из окопов и убежали. Преследовать их никто не стал. И мы с винтовками в руках вернулись на своё место расположения.
Пришли туда, а там уже были сломаны двери продовольственного склада, и нам кое-что досталось. А именно – я принёс ведро селёдок. И мы варили картошку да ели селёдки. Нашли и хлеба.
Здесь мы пробыли дня два или три. Потом к нам приехал француз и сказал по-русски, что для нас приготовлено помещение в другом месте и там будут нас кормить. Он рассказал, где находится это место. Оно называлось Бутолери (так у автора. – Прим. ред.) и было расположено на другой окраине города.
Там были трёхэтажные дома, где стояли кровати с матрасами, подушками и одеялами, работала кухня. Нас кормили нормально, вполне достаточно для здорового человека. Но после долгого голодания первое время еды нам не хватало. Однако вскоре нам стали давать паёк французского солдата, и даже – по 100 граммов красного вина в день. Мы окрепли. Здесь же мы сдали винтовки и патроны комендантскому взводу. В Бутолери был сборный пункт для всех советских граждан в этой местности.
Пришли сюда и наши товарищи, привезённые из Штуттгофа, в том числе и мои земляки – все, кто остался в живых. Оказалось, что четвертую партию (я писал выше, что нас по прибытии во Францию разбили на четыре группы) фашисты уничтожили, всех людей до единого. В этой уничтоженной группе были и двое моих земляков из деревни Белоусы, Павел и Нил. Сыновья Павла, Алексей и Виктор, сейчас проживают в Опочке. В уничтоженной группе также было более ста человек.
Оставшиеся в живых мои земляки стали жить в одной комнате. Я рассказал им о том, каким у нас был Верецун. Они говорили, что у них, в их двух группах, такого подлеца не оказалось. Прослышали мы было, что Верецун появился здесь, в Бутолери, пошли его искать, но найти не удалось, он опять куда-то сбежал. Этот бывший немецкий холуй теперь прятался от нас, боясь возмездия.
В Бутолери я пробыл до весны 1945 года. Как-то в начале апреля на сборный пункт прибыл из Парижа представитель советской военной миссии, посольства в то время ещё не было, и стал набирать 50 человек (причем только концлагерников) в советский охранный батальон для охраны военнопленных немцев в помощь союзникам. Там уже было 250 человек, а нужно было добавить ещё 50 с нашего сборного пункта. Желающих было много. В этот батальон был взят и я. Из земляков со мною туда попал только один человек – это Иван Волков из Красногородского района. Требовались подтверждения, что мы действительно концлагерники. Подтверждающих и рекомендующих нас нашлось много. Меня рекомендовал отец Ивана Волгина – Пётр Трофимович Семёнов и другие. И вот нас, 50 человек, после митинга во дворе сборного пункта, под духовой оркестр, отправили охранять военнопленных немцев.
Этот лагерь находился в 18 километрах от города Суассон. В этих местах в империалистическую войну 1914 года воевал русский экспедиционный корпус. В батальоне нас одели в американскую военную форму, так как советской там не было. На американских касках – белые пятиконечные звёзды, нам их перекрасили в красный цвет. На плечах были красные ленточки, где белыми буквами было написано: «Russia» – Россия. Я с Иваном Волковым был в одном взводе и в одном отделении.
В лагере находилось более 150000 военнопленных немцев. Его периметр протянулся примерно на 5 километров. Пленные находились в палатках. Охрану несли: один батальон белых американцев, один батальон негров, один батальон французов и наш советский батальон.
Французский батальон вскоре куда-то отправили, и охраняли немцев три батальона. До прибытия советского батальона всё время у пленных были побеги. Как заступил на охрану наш советский батальон, то побеги сразу прекратились. У пленных фашистов глаза полезли на лоб, когда они увидели солдат с красной звездой на каске. Они забились в палатки и боялись выходить, выглядывали в щели, как крысы из тросты.
Фронты сближались, и пленных прибывало всё больше. О, как они были ошеломлены, когда, выскакивая из вагона, видели наши красные звёзды на касках! Мы были вооружены винтовками, на ремне у каждого висел немецкий штык, и ещё охранникам давалась точёная дубовая палка со шнурком на одном конце. У нас свежи были в памяти все ужасы концлагерей и зверское битьё, которому мы подвергались ежедневно. Это помнил каждый из нас. И, честно говоря, никакие приказы не могли удержать нас от возмездия. Во время разгрузки пленных из вагонов мы с Волковым очень внимательно смотрели, не попал ли сюда этот ушастый ключник Отто. Но его не было.
Первые дни мы были жестоки в обращении с пленными. Но очень скоро, как говорят, зло прошло, и мы их больше не трогали. Они стали нам просто отвратительны. Видимо, так сказалось наше советское гуманное воспитание, полученное каждым из нас ещё в детские годы. А ещё мне думается, что у русского человека есть национальное врождённое чувство благородства и гуманности.
Вот взять этого ушастого ключника Отто. Ведь он каждый день избивал нескольких человек, и только то, что нас было около сотни, мешало ему избить всех заключенных в один день. И таким он был всё время, пока нас от него угнали. Пришлось бы быть у него ещё полгода или год, он всё время был бы таким извергом и ежедневно избивал бы людей. Мы удивлялись, как ему не надоест издеваться над нами. И ведь не один же такой был этот ушастый ключник, а почти все фашисты.
У нас же получилось совсем другое. Первые два-три дня мы использовали эти точёные дубины. А потом сами, безо всякого приказа, положили их и с собою не носили совсем, считали это позором для себя, для своего достоинства. А ведь сколько избиений перенёс каждый из нас от фашистов – не сочтёшь.
Охраняли пленных очень бдительно, за время нашей охраны не удалось сбежать никому, но дубинами их не били.
Интересный случай произошёл в период несения службы в советском охранном батальоне. Недалеко от нашего места жительства находился дощатый барак, оборудованный под клуб, где часто показывали кинофильмы. Мы ходили смотреть кино, и американцы нас пускали свободно.
Однажды мы пришли к клубу, думали смотреть кино. А там устроен вечер, играет духовой оркестр, приглашены француженки. Нас, свободных от наряда, было человек около двадцати, не более, и мы зашли в этот клуб, где проходили танцы.
Как только мы зашли в помещение, к нам подошёл один американский солдат и начал что-то говорить по-американски. Слушая его, мы встали кольцом вокруг, стараясь понять, что он говорит. Но ничего не поняли, так как не знали американского языка. Он был слегка пьян. И вдруг он разворачивается и бьёт кулаком одного нашего солдата. В ответ на это на него посыпались удар за ударом. Мы ему не давали падать, а гоняли его кулаками по кругу, как волейбольный мяч. На помощь ему выскочили другие, завязалась драка.
Американцев было около ста человек, а нас не более двух десятков. Драка кончилась тем, что всех американцев мы загнали на сцену и прижали к стенке около неё, где они выставили вперёд духовой оркестр, зная, что его мы трогать не будем. Француженки стояли вдоль продольной стенки клуба и скандировали: «Рус, браво! Рус, браво!», и долго продолжались их аплодисменты. Ещё чего не хватало – на свободе нас будут бить. Ведь каждому из нас ещё помнились концлагеря, и мы были исключительно сплочёнными и друг за друга стояли стеною.
Вскоре пришёл офицер-американец, он носил в петлицах одну никелированную шпалу, подобно той, что носили наши капитаны сухопутных войск до введения погон, только у нашего капитана была шпала красного цвета. Он немного говорил по-русски, его мы понимали.
Он начал нам говорить: «Зачем вы устроили дебош и зачем пришли сюда?» Мы отвечали, что дебош не устраивали, а начал его американский солдат, и показали, который. Он был весь в синяках.
«Спросите, пожалуйста, француженок, кто первый ударил».
Он подошёл к француженкам и спросил, а они все показали на американского солдата, который очень несуразно выглядел. А мы посмеивались над ним: он будет долго помнить цену первого удара. Этот солдат, вероятно, говорил нам, чтобы мы ушли, а мы не понимали его языка и стояли, тогда он решил применить силу.
Офицер-американец говорил нам, что вечер организован только для американцев. В ответ мы ему говорили так: «Вы не пускаете на вечер негров, так как они чёрные, а мы ведь белые, да притом помогаем вам охранять пленных немцев и, как вам известно, службу несём так, что побеги прекратились и вы нашей службой довольны. Поэтому мы считаем себя равноправными и имеем право быть на вечере».
Офицер всё предлагал нам уйти. А мы ответили, что это будет позором и унижением для нас, и мы не уйдём.
Видя нашу настойчивость, он разрешил быть нам на вечере и предупредил строго своих солдат, чтобы они больше не начинали драку. Заиграл духовой оркестр, начались танцы. Француженки танцевали с русскими солдатами, а американцы в основном – солдат с солдатом.
Вместе со мною в этой драке участвовал и мой земляк – Иван Волков.
Офицер-американец сказал своему солдату, начавшему драку, чтобы тот ушёл из клуба.
Мы с Иваном Волковым танцоры плохие и поэтому решили выйти на улицу. На улице стояла группа солдат-негров, которые, увидев нас, стали обнимать и целовать. Они видели в открытую дверь, как белые американцы были прижаты к стенке и загнаны на сцену.
Солнце уже зашло, уже начинало темнеть. Буфет работал, и там продавалось пиво. Негры брали пиво только в форточку, в помещение их не пускали даже за пивом, и угощали нас. Показывали, что у них чёрная кожа, поэтому их обижают американцы. Мы, как могли, доказывали, что у нас все равны, что белые, то и чёрные. Да они и без нас это знали. Один негр подарил мне на память кожаные перчатки и маленькое круглое зеркальце, а я ему – портсигар и авторучку. Негры даже плакали. А мы рассуждали, что какие же из них могут быть вояки при таком обращении с ними?..
День Победы мы встречали в этом же батальоне. Устроили совместный митинг всех трёх батальонов. Впереди маршировал батальон белых американцев, за ними – батальон негров, за неграми шёл наш батальон. Шли с песнями. У американцев и негров песни были слабозвучные. У нас один запевала пел куплеты, а батальон только припев: «Кипучая, могучая, никем непобедимая, страна моя, Москва моя, ты самая любимая». Припев батальон пел два раза.
Километрах в двух от нашего расположения была деревушка, там жила семья эмигрантов-поляков ещё с войны 1914 года. К ним мы с Волковым часто заходили. Пошли к ним и после митинга. Хозяйка-полячка и спрашивает: «Сегодня спевали русские солдаты песню?» Я ей ответил, что пели все – русские, белые американцы и негры. Она сказала, что американцев и негров она не слышала, а нашу песню даже выучила и повторила слова нашего припева. Вот как громко звучит эта песня, что на расстоянии двух километров полячка выучила её припев. Нас было 300 человек, а американцев и негров из двух батальонов – 600 человек, и их песен она даже вообще не слышала. С того времени я эту песню слушаю с особым вниманием.
Мой товарищ – Иван Волков – был со мною всё время в концлагерях, начиная с Опочки. Во Франции, в посёлке Салё, он пытался убежать из концлагеря, но неудачно. Его ранили в ногу и поймали охранники. На счастье, пуля не повредила кость, а прошла через мякоть. Его тогда очень жестоко избили. А ключник Отто не давал ему десять дней никакой пищи, он его не допускал до кухни и бил дубиной. Иван брал котелок и во время обеда подходил к каждому из нас. Каждый ему давал 1–2 ложки брюквы и щепотку хлеба бросал в котелок. Так мы его и прокормили все эти дни. Он примерно в таких годах, как и я. Сейчас он проживает вместе с семьёю в Себежском районе.
Из Парижа, из советской военной комиссии, пришёл приказ нам сдать оружие и отправиться самолётами на Родину. Почти неделю мы жили, уже без оружия, ожидали отправки. Фашисты узнали, что нас сняли с охраны, забросали шинелями колючую проволоку и стали уходить лавиной. Многие убежали, и только поставленный неграми пулемёт загнал их опять в палатки. Потом местные жители, французы, приводили пойманных ими немцев опять в лагерь.
Нас на машинах отвезли на аэродром. На самолётах мы были доставлены сначала в Германию, а оттуда на Родину. Мы с Иваном Волковым приехали на Родину раньше всех своих земляков – летом 1945 года. Вскоре вернулись и остальные наши земляки, опочецкие и красногородские. От них мы узнали, что Верецуну не пришлось доехать до Красногородска, а ещё в пути концлагерники из нашей сотни рассказали о нём, где это нужно было, и его осудили сроком на 10 лет. Так не ушёл от возмездия этот подлый холуй.
Сын Петра Егоровича – Алексей Петрович Егоров – воевал в спецгруппе «Борец» майора К.Д.Чугунова. Он был разведчиком. Погиб 29 февраля 1944 года на хуторе Малые Баты Лудзенского района Латвийской ССР. Жена – Евдокия Андреевна – была в концлагере, вернулась на Родину, и я ей рассказал про Петра Егоровича.
Апрель 1984 года