Вараксов Н. М. Дымные зори
В книге рассказывается о боевом пути 10-й Калининской партизанской бригады, бойцы и командиры которой в течение полутора лет вели мужественную борьбу в тылу -немецко- фашистских войск на территории западной части Калининской области (в ее довоенных границах).
Адресуется широкому кругу читателей.
Издательство «Московский рабочий», 1982 г.
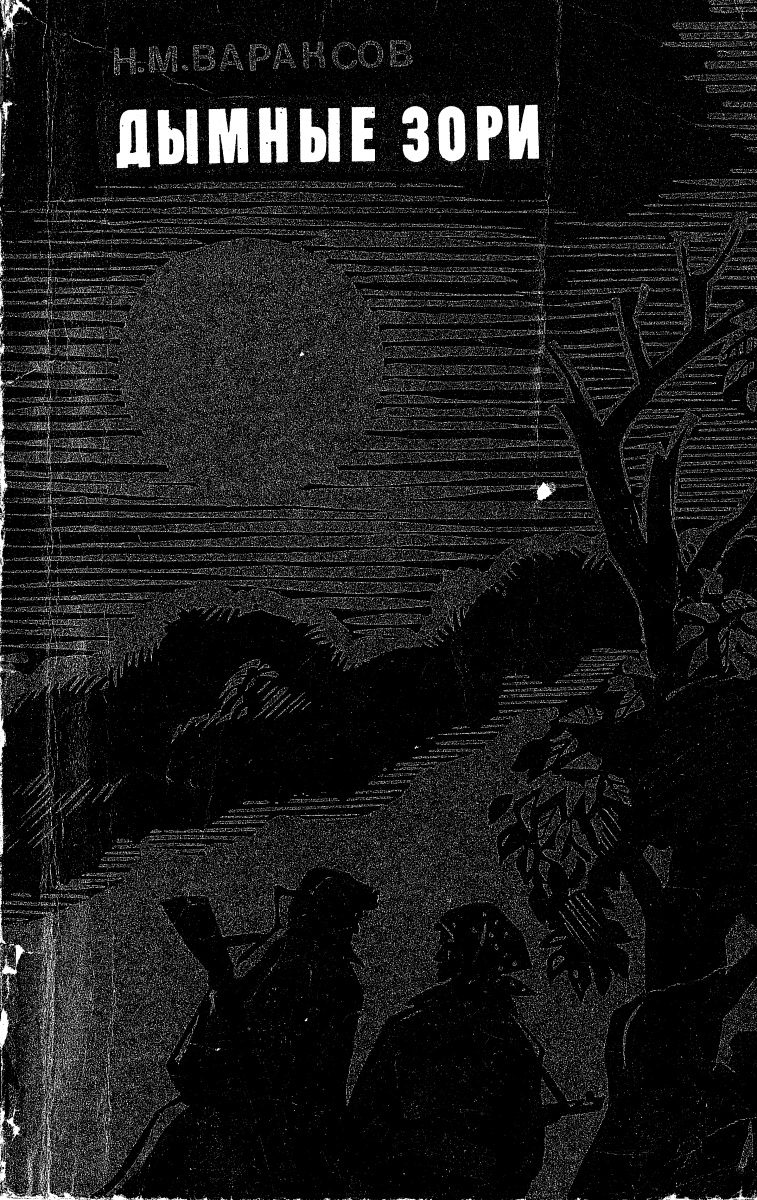 | 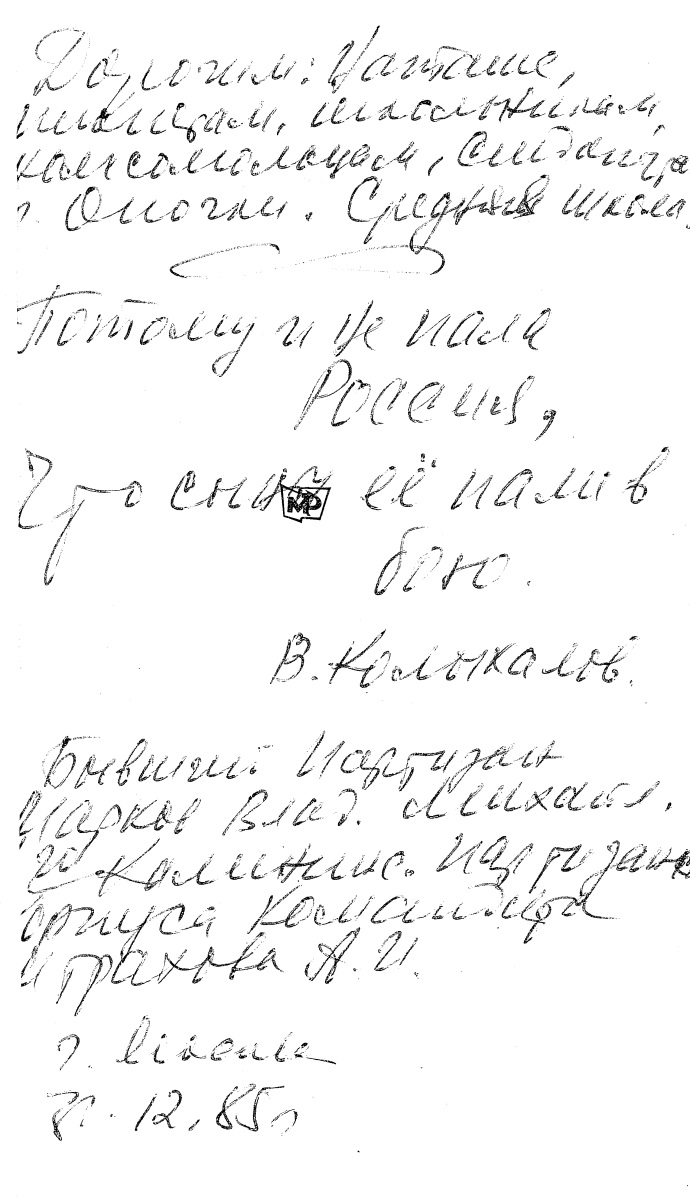 |
Благороднейшие граждане Отечества. Так назвал партизан человек мудрый и глубоко уважаемый народом— Михаил Иванович Калинин.
О партизанах Великой Отечественной войны написано много документальных повестей, научных трактатов, воспоминаний. И это закономерно. По своей масштабности, социальной и нравственной значимости битва советского народа с ударной силой империализма — германским фашизмом — являет собой целую эпоху. В ее летописи партизанское движение — золотая страница. Вечно в памяти живущих и грядущих поколений будет храниться борьба народных мстителей, полная людского горя и гнева, неимоверных трудностей и подвигов, крови и радости победы над врагом.
Фашистская клика, планируя вторжение в Советский Союз, захват его территорий, рассматривала подавление отдельных партизанских действий как чисто полицейскую, карательную акцию. Однако размах народной войны в тылах оккупационных войск опрокинул эти расчеты. Анализируя положение на фронте и в прифронтовой зоне осенью 1943 года, один из столпов вермахта Йодль вынужден был признать, что действия советских партизан, особенно на коммуникациях «очень отрицательно сказались на ведении операций».
Партизанские бригады и отряды отважно и умело действовали не только на артериях войны — дорогах. Они громили фашистские гарнизоны, уничтожали представителей насаждаемого гитлеровцами «нового порядка», спасали население оккупированных территорий от угона в рабство — в неметчину.
Выли партизаны, как правило, неуловимы. «Преследовать их значило бы гоняться за ветром, а окружать их было бы то же, что стараться удержать в решете воду». Эти примечательные слова, обращенные некогда английским писателем Вальтером Скоттом в адрес храбрых испанских герильеров, в полной мере относятся к партизанам Великой Отечественной войны.
Я познакомился и подружился со многими из них, когда летом 1942 года приказом Военного совета 4-й ударной армии меня неожиданно отозвали из родного полка и назначили начальником оперативной группы по руководству партизанским движением, а спустя год — начальником штаба партизанского движения Калининской области. К тому времени Себежский, Идрицкий, Пустошкинский и другие западные районы Калининской области представляли собой арену непрерывных партизанских действий. Успешно воевали у старой государственной границы и на белорусской земле, в районе Россон, Освеи и Дриссы, партизанские бригады под командованием Алексея Михайловича Гаврилова, Владимира Ивановича Марго, Федора Тимофеевича Бойдина, Петра Васильевича Рындина. Осенью 1942 года несколько бригад калининских партизан, сведенных в партизанский корпус, совершили кратковременный рейд по оккупированной территории области. Его бойцы провели 56 открытых боев с охранными войсками и подразделениями вермахта. Разгрому подверглись 8 фашистских и 5 полицейских гарнизонов. Под откос полетело 52 воинских эшелона врага.
В октябре 1942 года, обращаясь к населению оккупированной советской территории, Центральный Комитет ВКП(б) призывал: «Раздувайте пламя всенародного партизанского движения!» Калининский обком партии, командование фронта создают в это время новые формирования народных мстителей и посылают их в районы, где партизанские костры пылали еще не повсеместно. Одним из них стала бригада «На запад», впоследствии известная как 10-я Калининская партизанская бригада.
С нею ушел за линию фронта и великолучанин Николай Вараксов, получивший боевое крещение и закалку еще летом 1941 года, участвуя в борьбе с гитлеровцами на подступах к городу Великие Луки — стратегически важному железнодорожному узлу на дорогах к Москве.
Бригада «На запад» развернула боевые действия в первые дни 1943 года. Район ей достался не из легких. Междуречье. Это вблизи шоссе Ленинград — Витебск — Киев, где под него подбегают две реки — Исса и Синяя. Район на большом протяжении прилегает к Латвии, на границах которой гитлеровцы вкупе с их пособниками из лагеря буржуазных националистов устроили кордон с большим количеством гарнизонов.
В одном из первых крупных боев комбриг старший лейтенант Михаил Арсентьевич Лебедев был сильно контужен. По решению подпольного Красногородского райкома партии командование бригадой принял Николай Михайлович Вараксов.
10-я Калининская полтора года сражалась во вражеском тылу. Ее отряды штурмовали фашистское осиное гнездо в Сутоках, участвовали в операции «Рельсовая война», отбивали карательные экспедиции гитлеровцев, оперативно и масштабно помогли частям Советской Армии в дни летнего наступления в 1944 году в направлении на Прибалтику.
Об этих боях, о тех, кто дрался с ненавистным врагом, жизни не щадя, рассказывает Н. М. Вараксов в своих воспоминаниях. С большой душевной теплотой повествует он о подвигах боевых товарищей. Это люди, крепко стоящие на земле. Они горячо любят советскую Родину и, несмотря на все жестокое, через которое довелось им пройти, не потеряли отзывчивость, доброту сердца, чувство юмора.
Картины партизанской жизни, рассказ автора о боях, походах, потерях и победах правдивы. Это свидетельствую как человек, в чьи руки стекались в те огненные дни донесения, разведданные и другие материалы о действиях 10-й Калининской и других партизанских бригад. Вараксов как командир был смел в суждениях, решителен в боевой обстановке, лично храбр.
Успехи партизан были бы немыслимы без активной поддержки со стороны населения всего оккупированного края. В авторское повествование органически вплетены материалы о красногородских подпольщиках, приведены яркие примеры помощи партизанам со стороны местных жителей от подростков до глубоких стариков. Все это впечатляет и волнует.
В тылах фашистских армий группы «Север» действовали спецгруппы штабов советских войск, органов госбезопасности и штаба партизанского движения. Контакты между их командирами и командованием партизанских бригад были необходимы и полезны. Комбриг 10-й часто и успешно взаимодействовал со спецгруппой «Гонтарь». Под этим именем у нас в штабе был закодирован разведчик, в прошлом пограничник, Петр Васильевич Бобрусь.
Конечно, мемуары есть мемуары — человек пишет о том, что знал, видел, пережил, помнит. Но иной материал (описание боя, обстановки перед ним и после) не грех, как это сделал автор книги, сверить с документами архивов. Правдивость воспоминаний от такой сверки только выигрывает.
Партизанская борьба в тылу врага — выдающийся подвиг. Рассказы о нем помогают нам в историческом самопознании, укрепляют ощущение причастности к судьбе и славе нашего великого народа.
С. СОКОЛОВ, бывший начальник штаба партизанского движения Калининской области
Идем на запад
Человек борется тем, за что держится, во что верит, тем и бьет.
Михаил Пришвин
Дверь распахнулась, и вместе с клубами студеного воздуха в избу стремительно вошел комбриг. Снимая полушубок, спросил:
— О чем задумался, Николай Михайлович?
— Да так. Вроде бы и ни о чем,— ответил я.
— Не годится,— усмехнулся комбриг.— В новогоднюю ночь мечтать надо, не грех и пожелать чего- нибудь особенного.
— За желанием дело не станет. Оно имеется.
— Какое?
— Такое же, как и у тебя,— поскорее добраться до Синей.
— А ты угадал,— невесело ответил комбриг.
— Угадать легко. Спроси любого бойца — у всех одно в мыслях: скорей бы уж.
...Река Синяя. Совсем недавно попали мне на глаза строчки из стихотворения Владимира Туркина:
Может, воин шел с Чудо-озера,—
Речка взгляд его приморозила.
Дай ты силы мне, дай мне доблести,
Речка Синяя в Псковской области.
Вот к этой речке Синей и были обращены наши мысли в канун нового, 1942 года. Мы шли к ней и ночью и днем, добрых полмесяца. Только в отличие от воина с Чудо-озера двигались с противоположного направления. Пробирались глухими тропами. Пробивались сквозь снежные заслоны. Обходили крупные фашистские гарнизоны. 31 декабря остановились на отдых в лесной деревушке Себежского района, граничившего с Латвией.
Мы — это небольшая бригада калининских партизан с символическим названием «На запад». И район боевых действий был нам определен самый запад- ный в Калининской области — Красногородский, Бригаде предстояло «обжить» его, оседлать дороги, ведущие в Латвию и к стратегически важной коммуникации— Ленинградскому шоссе. В те дни войска Ленинградского и Волховского фронтов вместе с моряками Краснознаменного Балтийского флота готовили (мы тогда об этом, конечно, не знали) операцию «Искра». Главным результатом ее, как известно, стал прорыв блокады города Ленина, продолжавшийся почти 900 дней.
В этот успех внесли свой вклад и калининские партизаны. Они активизировали боевые действия, хотя и далеко от Ленинграда, зато у важнейших дорог к нему. Глухой осенью 1942 года в тылах фашистских армий группы «Север» рейдировал 1-й корпус калининских партизан. Он нанес удары по коммуникациям и гарнизонам врага и вызвал к жизни новые партизанские формирования. Тогда и родилась наша бригада.
Основание бригаде положила небольшая группа энергичных и мужественных людей под командованием старшего лейтенанта коммуниста Михаила Арсентьевича Лебедева. Смело появлялись они в населенных пунктах Идрицкого, Себежского и Невельского районов Калининской области, в белорусских деревнях. И везде находились добровольцы. Лебедев и его товарищи проводили и мобилизационную работу. Будучи уполномочены органами Советской власти, они призывали на военную службу тех, кто в силу различных обстоятельств не попал в Красную Армию в первые недели войны, а также выявляли красноармейцев, отбившихся от своих частей при выходе из окружения. «Выполняем функции райвоенкоматов»,— полушутя, полусерьезно говорил, Лебедев юному партизану-пулеметчику Вале Ершову, сопровождавшему его в таких походах.
В округе действовали каратели. В таких условиях уход в партизаны одного из членов семьи подвергал смертельной опасности всех оставшихся. И все же группа Лебедева медленно, но уверенно росла. У каждого, кто вливался в нее, был свой счет к оккупантам, у некоторых уже и боевая строка в партизанской биографии.
...Шестнадцать лет исполнилось Вале Бусовой в 1941 году. Росла Валя без матери. Училась в школе. Бойкая, смышленая, до любой работы охочая. Радовался Николай Иванович, глядя на дочь. Не без гордости говорил соседям: «А Валюшка моя — что те парень. Ко всему руки доходят».
Гордилась и Валя отцом — честным, трудолюбивым... И вот стоит она, прижав к себе маленького братишку, и страшной болью в сердце вонзается свист резиновых дубинок. Они градом сыплются на отца. «Где спрятано красноармейское оружие?» — кричит разъяренный гитлеровец... Смотрела Валя на отцовскую кровь, и в груди закипало неведомое раньше чувство. Имя ему было ненависть. Оно и определило дальнейшую жизнь девушки. Распространяла в родной деревне сброшенные с самолета советские листовки, ходила по заданию разведчиков рейдирующего корпуса в село, где стояли фашистские гарнизоны.
Вместе с подругой Зиной Плюсковой приняла Валя боевое крещение у озера Язно, где бойцы партизанского корпуса вели упорный бой с полевыми войсками гитлеровцев. Бусова и Плюскова стали первыми партизанками в формируемой бригаде.
У Вали и Зины — боевая строчка в биографии, а у Ерофея Федоровича Иванова — страница, да не одна. В рядах 445-го Себежского стрелкового полка воевал он против солдат германского кайзера в первую мировую войну. Командуя взводом в частях Красной Армии, сражался против полчищ Колчака. Попал в плен. Бежал из-под расстрела. Партизанил в лесах под Иркутском.
Не думал Ерофей Федорович, завершая пятый десяток жизни, что опять придется брать в руки оружие, но, когда гитлеровцы появились вблизи деревни Комлево, где жила его семья, припрятал брошенную кем-то винтовку. Цену оружия пожилой прораб Идрицкого леспромхоза хорошо знал. В мае 1942 года он стал бойцом в группе местных партизан, организованной командиром Красной Армии Родионом Охотиным, а в октябре перешел в бригаду «На запад».
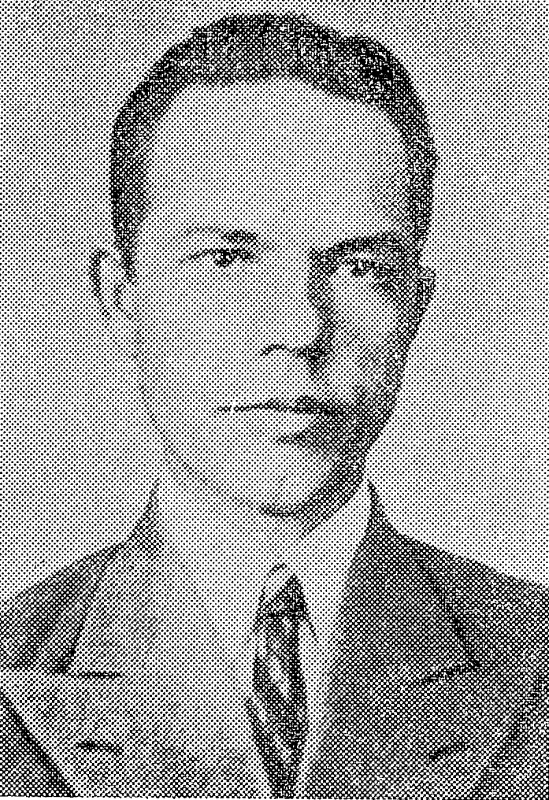 |  |
М. А. Лебедев - командир 10-й партизанской бригады в первые месяцы ее боевых действий | А. А. Козлов - комиссар бригады до августа 1943 года |
Когда народу поднабралось порядком, Лебедев повел людей в советский тыл на вооружение. То был поход-подвиг. На три с лишним сотни человек один ручной пулемет, два автомата да двадцать винтовок. А путь не малый, и кругом враги.
Линию фронта перешли незаметно. Фашисты обнаружили партизан, когда хвост колонны уже втягивался в лес нейтральной зоны. Огонь открыли неистовый, но беспорядочный. Потерь бригада не понесла и вскоре остановилась в деревне Лопаткино Урицкого сельсовета Великолукского района. Здесь и скрестились наши пути.
В конце 1942 года советские войска под Великими Луками прочно удерживали в своих руках боевую инициативу. Со дня на день ожидался последний бой за освобождение древнего русского города на Ловати. С ним у меня было связано многое, да почти и все главное в прожитые 32 года.
В Куньинском районе, невдалеке от Великих Лук, был мой отчий дом (отец Михаил Парфенович погиб на фронте в первую мировую войну) — деревушка Змеенки. В великолукском депо овладел я рабочей профессией — стал слесарем. Отслужив пять лет в армии, вернулся на берега Ловати. Последнее время работал в военном отделе горкома ВКП(б). Когда летом сорок первого года на подступах к городу разгорелось многодневное сражение, командовал истребительным батальоном. После вторжения фашистов в Великие Луки был командиром отделения разведки в городском партизанском отряде.
Вторая военная осень застала меня в прифронтовой зоне, где я выполнял отдельные задания областного комитета партии. Незадолго до октябрьских праздников раздался телефонный звонок — мне было приказано явиться в Калинин к секретарю обкома ВКП(б) П. С. Воронцову. Кто-то из товарищей пошутил:
— Получишь назначение в Великие Луки, не забудь и про нас, грешных.
— Куда иголка — туда и нитка,— отшутился я.
Воронцов принял меня поздно вечером. Поднявшись из-за стола, заваленного ворохом бумаг, спросил:
— Чем занимался последнее время, товарищ Вараксов?
С Воронцовым я разговаривал впервые. Ответил официально:
— Организовывал подвоз фуража нашим войскам под Великими Луками.
— Под Великими Луками,—не то переспросил, не то повторил Воронцов.
— Так точно. Под Великими Луками.
— Ишь ты. Научился по-военному рапортовать,— Воронцов улыбнулся.— Фашистов из твоих Великих Лук скоро попрут. А дальше? Сколько за Луками нашей калининской земли — знаешь? — Не дав мне ответить на вопрос, сердито бросил: — Десять районов — вот сколько. И вряд ли их освободят от оккупации сразу. Воевать и воевать там надо. Ясно?
— Так точно.
— Да брось ты свое «так точно». Не в штабе армии находишься. Садись.— Голос секретаря обкома звучал теперь глуховато, чувствовалось по всему — человек очень устал. Немного помедлив, он продолжил разговор:
— В ближайшее время в самый отдаленный район уйдет новая партизанская бригада. В ее составе будет находиться Красногородский райком партии. Бригада формировалась в немецком тылу. Будем ее вооружать и укреплять кадрами. Есть решение назначить тебя заместителем комбрига и членом райкома. Войну ты знаешь не понаслышке, да и с партработой знаком.
Я поблагодарил за доверие. Воронцов познакомил меня вкратце с положением в оккупированных западных районах области, сказал доброе слово в адрес комбрига Лебедева и комиссара бригады Алексея Алексеевича Козлова. Выразил сожаление, что не удалось подобрать в руководящее ядро бригады местных товарищей, кроме члена подпольного райкома Анастасии Васильевны Павловой. Последняя до войны работала председателем Мозулевского сельсовета Красногородского района, была депутатом Калининского областного Совета депутатов трудящихся.
Позже я убедился, как был прав секретарь обкома. Рядом с нами у латвийской границы действовала партизанская бригада под командованием Владимира Марго. Добрая половина ее командиров и политработников состояла из местных товарищей. Это обстоятельство облегчало решение многих вопросов в подготовке боевых операций и организации партизанского быта.
В Лопаткино я прибыл на следующий день после прихода туда бригады. Деревня небольшая —- дворов двадцать. Окрест лесисто-болотистая местность. Невдалеке фронт. Изредка доносится глухой артиллерийский гул. К нему здесь привыкли. Накануне выпал снег —нежно похрустывает под ногами.
Шел я в добром настроении. Оно не изменилось и после знакомства с комбригом. Михаил Арсентьевич встретил меня приветливо. Немного расспросил про довоенную жизнь и, что особо было приятно, про участие в боях за Великие Луки в сорок первом... Четвертое десятилетие мы живем под мирным небом. И все еще есть не до конца раскрытые подвиги, не полностью заполненные страницы летописи Великой Отечественной. Одна из них — бои на берегах Ловати. Целый месяц, выбив фашистов из Великих Лук, красноармейцы и великолучане удерживали город и рубежи вокруг его в своих руках. Целый месяц! И это в дни, когда на дальних подступах к Москве разгоралось сражение исключительной важности — Смоленское...
С комиссаром бригады Алексеем Алексеевичем Козловым я познакомился немного позднее. Худощавый, выше среднего роста, брюнет, очень подвижный, лет на пять старше нас с комбригом. Типичный довоенный секретарь райкома партии (он и был таковым), человек, не служивший в армии, но умеющий быстро оценивать боевую ситуацию и принимать, коль того требует обстановка, самостоятельное решение.
В первых же встречах, в ночных беседах, при организации учебы вверенного нам личного состава мы трое нашли быстро общий язык. Деловые и товарищеские отношения сохранили и в дальнейшем, что бесспорно положительно сказалось на боеспособности бригады. Кроме командира и комиссара нашей бригады в подпольный райком партии входили Анастасия Васильевна Павлова и Павел Гаврилович Романов, возглавивший нашу партийную организацию. В дни советско-финляндской войны Романов был политруком роты, участвовал в боях. Накануне Великой Отечественной работал в одном из райкомов партии.
Более месяца провели мы в прифронтовой зоне. Шло переформирование. Часть бойцов пришлось по состоянию здоровья отчислить. С остальными партизанами ежедневно проводились занятия. Изучали отечественное и трофейное оружие, подрывное дело, тактику партизанских действий. Учебой руководили специалисты из 3-й ударной армии. Были и свои доморощенные учителя. Так, одну из групп стрельбе из пулемета обучал... шестнадцатилетний партизан Валентин Ершов. Стрелял он превосходно, а вот материальную часть оружия знал довольно относительно. Пришел однажды проверяющий — капитан из штаба полка. Начали ребята пулемет разбирать. Проверяющий показал на боевые выступы затвора, спрашивает: «Как называется эта часть?» В ответ единодушное: «Щечки». «Кто обучал вас?»—поинтересовался капитан. Все посмотрели на Ершова.
Посмотрел на парнишку и проверяющий. Пожал плечами и предложил: «Ну что ж, пойдемте стрелять». А стреляли все хорошо. Остался доволен капитан, пожелал, уходя со стрельбища: «Стреляйте так же метко и по фашистам». Забегая вперед, скажу: пулеметчики бригады не раз выручали нас в боях с противником, превышающим наши отряды в силе.
Отсеивая часть людей, мы одновременно пополняли бригаду. Хороших бойцов получили из спецшкол. Не поскупилось на опытных командиров армейское командование. Назову две фамилии — Сауликова и Солдатов. Думаю, что любой из ныне здравствующих моих боевых товарищей согласится с их характеристикой: достойнейшие из достойных.
Семья Сауликовых в Рамешках получила две похоронных, когда восемнадцатилетняя Маша сообщила матери о вызове в спецшколу ЦК ВЛКСМ, В столицу Машу провожали всей деревней... После четырехмесячной подготовки Сауликова была направлена в тыл врага. Жизнерадостная, на редкость энергичная девушка стала в бригаде комсомольским вожаком, впоследствии первым секретарем подпольного Красногородского райкома комсомола. Личная храбрость, общительность, умение горячо и толково выступать перед народом снискали Фаине (это было конспиративное имя Сауликовой) общее признание. К ней тянулись. С нею советовались.
 |  |
| М. Г. Сауликова (Авдохина) - первый секретарь подпольного райкома ВЛКСМ | М. Н. Михайлова (Веселова) - партизанка-подрывница |
Старшему лейтенанту коммунисту Александру Михайловичу Солдатову было под тридцать. На фронте он командовал разведывательной ротой и вдоволь наползался в боевых порядках войскового тыла врага [1]. Жила в нем неуемная жажда выведать, узнать любую мелочь, самую малую деталь о противнике. Ревностно обучал искусству разведки старший лейтенант и своих подопечных — «будущих орлов», по его определению. И они оправдали надежды. Это, бесспорно, в первую очередь их заслуга, что бригада наша ни разу не была захвачена карателями врасплох, в какие бы переплеты ни попадала.
Солдатову, как заместителю комбрига по разведке, и было поручено найти более-менее безопасный проход через линию фронта, когда поступил приказ о перебазировании бригады к берегам Синей. Обнаружить такое место в те дни считалось делом маловероятным. Фашисты плотно закрыли на нашем участке фронта свой передний край. Попытки миновать его без боя не удавались.
Всю первую половину декабря Солдатов со своим помощником балтийским моряком Сергеем Шуваевым разведывали нейтральную полосу, дважды побывали в тылу врага. Вернувшись из третьей такой вылазки, наш старший разведчик доложил:
— Пойдем по льду озера Сенница.
— На берегах фашистские гарнизоны. На льду, что в поле, не укроешься. Ты это учел? — спросил комиссар бригады.
— Да. Но вот уже два дня оттепель. На льду полно воды. Гитлеровцам и в голову не придет, что можно перейти озеро в таких условиях.
— Рискованно,— заметил я.
— Согласен. Но иного пути сейчас нет.
— Ну что ж, на нет и суда нет. Пойдем через Сенницу,— решил комбриг.
В ночь с 15 на 16 декабря 1942 года 358 вооруженных человек с большим грузом за плечами приблизились к Сеннице. Озеро зловеще темнело. Справа где-то отрывисто стучал пулемет. Первыми ступили на лед, покрытый водой, Солдатов, Шуваев и еще несколько разведчиков. Штаб бригады шел в центре. Я в замыкающей группе.
Никогда не забудется эта ночь! Двигались гуськом, молча, без команд. Замирали, когда в небе растекался дрожащий свет ракет и вслед им пронзала мглистый воздух трасса пуль. А студеная вода просачивалась в обувь. Многие падали, и тогда нательное белье превращалось в ледяной компресс.
Сенница не такое большое озеро, но тогда казалось, шли мы целую вечность. Моим грузом были: автомат, 300 патронов, пистолет, сухари, белье. И был я, что называется, в полном расцвете сил. А устал смертельно. Как же досталось товарищам постарше годами, и особенно нашим девушкам!
К 30-летию Победы я получил письмо от Марии Николаевны Михайловой (Веселовой). Маша пришла в бригаду из спецшколы. Веселая девушка, лучшая наша певунья и плясунья, стала в тылу врага лихой подрывницей. Вспоминая переход через Сенницу, она пишет:
«Ноги мои превратились в ледышки. Вскоре я ступала в воду и не чувствовала их. И ничего я тогда не желала, как услышать слово «привал». А услышали мы его лишь тогда, когда отошли от озера на несколько километров. Чтобы разуться, пришлось с обуви скалывать лед. Не верится, что это все было...»
Начальник гарнизона деревни Поровницы, расположенной на берегу озера, узнав позже о нашем переходе, приказал расстрелять часовых. На льду Сенницы были поставлены огромные бочки, в которых укрывались пулеметчики,— своеобразная засада.
Такова одиссея бригады «На запад» до 1943 года, до того новогоднего вечера, с которого я начал свое повествование. В тот вечер, а точнее в ночь, я уговорил Михаила Арсентьевича вздремнуть (он еле держался на ногах), а сам пошел проверить посты и посмотреть, как отдыхают бойцы.
Спали люди мертвецки, но даже тихий разговор с дежурным поднимал на ноги многих. За дни тяжелого похода у бойцов выработалась мгновенная реакция на малейший шум и голоса в ночи. Охрана была бдительной, и я через час уже шагал обратно к штабной избе.
Ночь выдалась звездная, морозная. Настоящая новогодняя. Невольно мысли перенесли меня в прошлое, и я лишний раз убедился, как верно изречение: «Ничто не смеется так весело и не хмурится так грустно, как поток воспоминаний».
Вспомнился один из весенних вечеров 1931 года. Ловать несла бурные вешние воды. Я с двумя приятелями из депо шел по ее берегу навстречу ветру. Устали здорово — весь день провели на комсомольском воскреснике. Настроение же было радостное, майское. Мне, девятнадцатилетнему рабочему пареньку, присвоили накануне звание ударника первой пятилетки. Сердце пело, казалось все по плечу.
А рядом из кладовой памяти встало другое... 17 июля 1941 года. Последние часы эвакуации из Великих Лук. Проезжая по одной из улиц, встретил группу бойцов военизированной охраны городской радиостанции. Смотрю — брат Сашка. Обнялись крепко. Спрашиваю: «Куда ты теперь?» Отвечает удивленно: «Как куда? В армию, конечно». Грустное было расставание, но я понимал Александра. Вараксовым, как и сотням тысяч других рабочих и крестьянских семей, можно было лишиться многого, но только не родной Советской власти. А ее судьба решалась на фронте... [2]
Я бы еще, очевидно, долго стоял у крыльца, погруженный в воспоминания, если бы не слова, раздавшиеся сзади:
— Иди поспи немного. Через два часа снова в путь.
Вздрогнув, я оглянулся — Алексей Алексеевич тоже бодрствовал...
Еще трое суток — и трехсоткилометровый поход завершен. Мы в деревне Ровново Красногородского района. Не успели еще как следует разместиться, а у дверей штаба уже появилось несколько крестьян почтенного возраста. Стоят, с ноги на ногу переминаются, посматривают на автомат часового. Мы с Козловым вышли на улицу, пригласили всех в дом. Обменялись рукопожатиями, друг друга табачком угостили. Забористый у крестьян табачок был... А вот разговор деловой не получался. И тут вдруг в дверях показалась Павлова. Гости наши все встали, а Анастасия Васильевна (как будто и не было полутора лет оккупации) спокойно и деловито сказала:
— Садитесь, товарищи. Давайте поговорим о наших задачах. В нашем сельсовете...
Многое тот разговор нам подсказал. И где оружие достать можно, и где находятся крупные вражеские гарнизоны. А о тех, кто в холуи фашистские пошел, было сказано гневное слово. Узнали мы, что в отли чие от других районов в междуречье гитлеровцы создали крупные государственные имения: Синьозерское, Лямони, Богородицкое, Федоровское, Грайненское и Станкеевское. Под имения отведены лучшие земли. Заправляет хозяйствами обер-лейтенант Иогансон, типичный пруссак.
А люди в штаб все подходят и подходят. Обращаясь к комбригу, докладывают:
— Артем Порозов. Из деревни Репшино. Кузнец. Может, сгожусь на что.
— Я — Прокофьев. Воевал в гражданскую. До войны участковым был. Местность хорошо знаю.
А вот вошли двое. По всему видно: отец и сын. Старший спокойно рассказывает: фамилия Зубков, по профессии агроном, участник гражданской войны. Младший выглядит лихо: на голове буденовка, на ремне четыре гранаты, на ногах армейские кирзовые сапоги, на правом плече тускло отливает новенький немецкий автомат. Четко докладывает:
— Товарищ командир бригады, прибыл в ваше распоряжение командир группы самообороны деревни Машнево Юрий Зубков! — И, сверкнув улыбкой, добавляет: — Нас двенадцать таких, как я.
Посмеивается Павлова. Шепчет Лебедеву и мне:
— Это только принято тут чуток прибедняться по присказке: «Город наш Красный, река Синяя, люди мы тихие — раков боимся». Начнем здесь воевать — они покажут фашистам, где раки зимуют.
Душевно приняли нас жители деревень Ровново, Церковка, Лубьево, Машнево и Брод, где разместились отряды после последнего перехода: задымили бани, крестьянки начали стирку и починку партизанского белья, заработали местные «обувных дел мастера». А вечером во многих избах зазвучали советские песни, раздались звуки гармошек. Молодость — всегда молодость. В центре веселья Вера Ганюшкина, Лазарь Минченко, Виктор Михеенко, Иван Авдохин, Мария Климентьева.
Ко мне то и дело подходят начальники штабов отрядов, ответственные за охрану, смущенно, как бы жалуясь на свою беспомощность, заявляют:
— Не расходятся. Все поют еще. Что делать?
— Ну и пусть поют,— отвечаю.— Истосковались люди по нашей советской жизни. А делать что, небось лучше меня знаете: усилить охранение.
На исходе ночи разведчики уже принесли первые сведения о противнике. Через полчаса Солдатов докладывал комбригу и комиссару:
— Наиболее подходящий маршрут движения бригады в глубь района лежит, на мой взгляд, между гарнизонами гитлеровцев, расположенными в деревнях Луги, Столбово и Мозули, затем южнее деревни Дымово. По льду перейдем реку Синюю и далее двинемся на север вдоль границы с Латвией — к деревням Александрово, Малашно, Масловка. На пути нашем имение Синьозерье, в деревне Александрово—волостное управление. Разведкой установлено: 7 января в имении по случаю рождества предполагается пирушка, 8 января управа Александровской волости собирает старост деревень.
— Вот и наведаемся и в Синьозерье, и в Александрово,— предложил Козлов.— Нежданными гостями на бал.
— Бал так бал, — поддержал я комиссара.
— Решено,— сказал комбриг.
Мы вышли на улицу. Занимался рассвет. Заря была не яркой, подернутой какими-то дымными полосами. И все же она упорно теснила темень зимней ночи.
[1] Войсковой тыл (иначе тактический) — тыл частей и соединений армии.
[2] Вараксов Александр Михайлович погиб в феврале 1942 года на Ленинградском фронте.
Междуречье в огне
Между городами Остров и Опочка Ленинградское шоссе пересекает река Исса. Параллельно ей несет свои воды по русским и латышским землям река Синяя (Зилупе). Междуречье — живописный район северо-запада нашей страны. Здесь в летнее время отдыхают тысячи ленинградцев. В лесах аукаются грибники. Осенью на берегах рек часто слышен голос охотничьих рожков.
В начале января сорок третьего междуречье тонуло в глубоких снегах. Зловещая тишина повисла в его деревнях. Район был далек от фронта, но фашистские гарнизоны стояли во всех крупных населенных пунктах. В достаточном количестве охранные войска имелись и в самом райцентре. Подразделения вермахта постоянно находились в Опочке, расположенной в 30 километрах от Красногородска на магистральном шоссе.
Оккупационные власти, фуражиры воинских частей чувствовали себя здесь весьма уверенно. Распоясались и фашистские прихвостни бургомистр Горицкий, начальник полиции порядка (ОД) Васильев, старший полицай Мочалов, — бывшие кулаки и уголовники, охотно предложившие свои услуги гитлеровцам.
Было бы неверным утверждать, что до прихода нашей бригады в междуречье местное население смирилось с жестоким оккупационным режимом. На территории края не действовали отряды партизан, но борьбу партизанскими методами советские патриоты вели. И группами и в одиночку. Одна из таких групп—«Восьмерка»—влилась в нашу бригаду.
У каждого из ее членов (они впервые собрались вместе 1 мая 1942 года в лесу вблизи деревни Астицы) была к этому времени своя военная судьба, и, за исключением двоих, все знали почем фунт лиха. Председатель колхоза «Заря — Восход» Степан Андреевич Андреев, лесник Иван Федорович Федоров, колхозник Егор Петрович Самоучкин бежали из концлагеря. А лейтенант-артиллерист Алексей Васильевич Андреев, выйдя из окружения на оккупированную территорию, прошагал по ней более двух тысяч километров. Что испытал он, пробираясь домой с оружием в руках, мерзлый и голодный, известно, как говорится, одному богу. Однако на вопрос обрадованной и испуганной матери: «Что ж будет теперь, сынок, власть-то кругом фашистская?» — комсомолец ответил: «Какая к черту власть! Зловластие это, и с ним будем бороться».
Еще более сложный и тернистый путь был у коммуниста младшего лейтенанта Василия Михайловича Орехова из деревни Ершово. Предатель выдал его, и Орехов попал в руки начальника отделения СД в Опочке капитана Крезера. Матерый контрразведчик пытался склонить патриота к предательству, но тот плюнул в лицо фашисту. Через несколько дней Орехова и еще семь человек повезли на расстрел к противотанковому рву. Расстреливали два гитлеровца, последними к обрыву подвели Орехова и Василия Григорьева. Один из палачей стал перезаряжать пистолет, другой закуривать. И этим воспользовались патриоты. Орехов в прыжке ударил гитлеровца головой в подбородок. Григорьев бросился под ноги второму палачу, и тот выронил пистолет. Со связанными руками бегом к лесу. Фашисты открыли огонь, ранили обоих, но догнать не смогли.
Однако на этом испытания для Орехова не кончились. Гитлеровцы упорно его искали. Однажды настигли. Пустили по следу двух овчарок. Василий Михайлович застрелил собак и весь в рваных ранах скрылся от преследователей.
Два других члена «Восьмерки» — Василий Васильевич Королев и Михаил Иванович Гильков — вскоре ушли к линии фронта с целью перейти ее. Их заменили Николай и Семен Андреевы — брат Алексея Васильевича и сын Степана Андреевича Андреевых. Николаю в те дни исполнилось 17 лет, Семену — 14, но смелости ребятам было не занимать.
Командовал «Восьмеркой» Алексей Андреев. Группа сразу же начала активные действия. На шоссе Мозули — Красногородск смельчаки спиливали телефонные столбы, разбирали мосты. Около деревни Тряпичино подорвали гранатами и сожгли две автомашины. Была сделана засада на главаря полицаев Васильева. Несколько предателей удалось уничтожить, но Васильев избежал заслуженной кары.
«Восьмерку» поддерживало население, и она стала неуловимой. Неистовую злобу на первых партизан на берегах Синей фашисты выместили на их родных и помощниках. Были арестованы и после истязаний на допросах расстреляны 5 сентября 1942 года мать командира «Восьмерки» Татьяна Тарасовна Тарасова, жена Степана Андреева — Ульяна Егоровна, Анна Михайловна Федорова — жена Ивана Федоровича Федорова, мать Самоучкина— Варвара Терентьевна Терентьева. Вместе с ними от рук палачей погибли Евгения Павловна Лисовицкая, учительница-комсомолка, снабжавшая «Восьмерку» разведывательной информацией, ее отец Павел Алексеевич Алексеев — животновод колхоза «Заря — Восход» и Михаил Максимович Максимов, помогавшие группе оружием и боеприпасами.
До 7 ноября «Восьмерка» совершала небольшие диверсии в междуречье, затем некоторое время действовала в Себежском районе в составе одного из отрядов бригады Марго. Когда эти смелые люди пришли в нашу бригаду, рассказывали про себя скупо. Лейтенант Андреев попросил лишь об одном комбрига:
— Пустите скорее в дело. Вы человек военный и хорошо понимаете: любой рассказ незнакомца на войне проверяется в бою.
Мы были уже тогда немного наслышаны о группе, и командование бригады доверило Андрееву и его товарищам боевые посты в соединении. Командир «Восьмерки» был назначен заместителем командира отряда, Орехов принял под свое начало взвод разведки, Федоров — группу. Николай Андреев стал разведчиком, Самоучкин и самый юный из смельчаков Сеня Андреев — ординарцами комбрига и комиссара бригады. Сергеева направили в спецотряд, а Степану Андреевичу Андрееву (ему уже было под пятьдесят) предложили «должность» мастера по ремонту оружия.
И еще об одном человеке гордой отваги и неукротимой ненависти к врагу хочется рассказать. Я не знал его лично — он погиб до нашего прихода на берега Синей, но о нем шла людская молва. Петр Самойлов, первый секретарь Красногородского райкома комсомола, на собственный риск и страх остался в районе. Молодой коммунист, прошедший боевую закалку в армии, сердцем и разумом понял значение призыва И. В. Сталина в речи 3 июля 1941 года к всенародной борьбе в тылу врага и немедля приступил к ее организации.
История комсомольского подполья в Красногородске до сих пор малоизвестная героическая страница минувшей войны. Раскрыть ее — дело чести комсомола Псковщины. Совсем недавно я получил письмо от Николая Герасимовича Анисимова. Он хорошо помнит Петра Самойлова. Комсомолец Анисимов в первые месяцы войны выполнял задания Самойлова, укрывал его в своем доме, позже ушел в спецотряд.
Ищейки тайной полевой полиции (ГФП), соглядатаи из фашистских прихвостней охотились за комсомольским секретарем, как за диким зверем: устраивали засады, налеты на деревни, подсылали провокаторов. Был такой случай. Гитлеровцы окружили дом, где, по их данным, ночевал Самойлов. Начался обыск. Он продолжался несколько часов. Все это время Петр находился в... колодце, по горло в воде, сжимая в руке браунинг.
Помнят героя и Антонина Матвеевна Самойлова и Александра Афанасьевна Шубина, проживающие ныне в Псковской области. До войны учительница- комсомолка, Антонина Матвеевна в дни оккупации Красногородского района стала связной в одном из отрядов калининских партизан, позже медицинским работником в 4-й ленинградской партизанской бригаде. Александра Афанасьевна помогала спецгруппе майора Чугунова.
Трагический случай оборвал весной 1942 года жизнь Петра Степановича Самойлова. В ту пору он с небольшой группой смельчаков действовал в Себежском районе.
Нет. Мы пришли не на голое место. У нас были предшественники — самоотверженные, мужественные. Ведь не случайно в первые же часы нашего пребывания в деревнях Красногородского района к нам потянулись десятки людей, горя желанием сражаться с оружием в руках против немецко-фашистских захватчиков. Наша бригада была, конечно, значительной силой, но без поддержки народа вряд ли мы долго продержались бы. Для тех, кто воевал, это — аксиома. И все же повторять ее следует.
 | 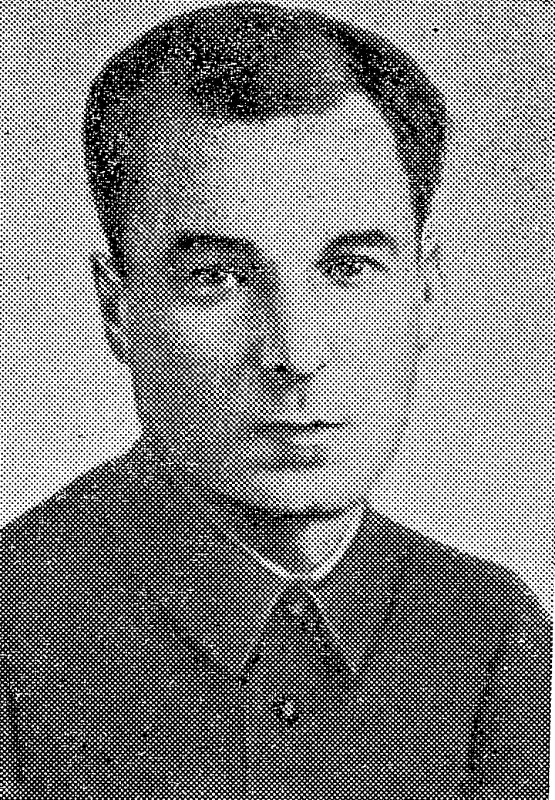 |
| А. В. Андреев - заместитель командира отряда | И. В. Жуков- командир отряда |
10-я Калининская состояла из четырех отрядов, которые носили названия: «Смерть оккупантам», имени А. А- Жданова, имени С. М. Кирова и «25 лет Октября». Командирами и комиссарами отрядов соответственно были: Иван Павлович Рожко и Василий Степанович Антипов, Илья Владимирович Жуков и Николай Александрович Волков, Петр Захарович Поздняков (позже Василий Николаевич Коробков) и Василий Андреевич Федоров, Иван Николаевич Ветковский и Иван Васильевич Федоров (позже Петр Павлович Макаров). Отряды имели по три боевых группы (взвода), свою разведку, хозяйственное отделение, медицинский персонал. Такая структура позволяла в случае необходимости действовать отрядам самостоятельно длительное время.
Штаб бригады поначалу возглавлял Захар Леонтьевич Дорош. В сентябре 1943 года его для пользы дела пришлось заменить Владимиром Александровичем Авдохиным. При штабе имелись взвод бригадной разведки, две подрывные группы, связные, санитарная часть (главный врач — хирург Валентина Павловна Щелкунова), хозчасть, взвод охраны, два радиста, писарь.
Среди командного состава бригады было немало кадровых военных и, что особо важно, некоторые из них имели фронтовой опыт.
Так, лейтенанты Рожко и Поздняков служили в армии с 1937 года, а Жуков хотя и отдал многие годы жизни социалистическому строительству в городе и деревне, тоже «нюхал порох» — участвовал в советско-финляндской войне, был награжден медалью «За боевые заслуги».
И если Рожко и Поздняков и в партизанах не забывали, что они профессиональные военные и вопросы решали по-фронтовому, немедля, подчас с бесшабашной смелостью, то Ветковский, в свою очередь, помнил всегда, что до войны он был председателем сельсовета, и прежде всего ценил продуманность решений, смелость, подкрепленную расчетом. От него часто в бою можно было услышать:
— На рожон не лезь! Выжди команды и тогда пошел.
Из командиров отрядов Иван Николаевич по возрасту был старшим. Чувствовался в нем русский крестьянин. Война для него была работой.

И. Н. Ветковский - командир отряда
В способности наших командиров отрядов грамотно в военном отношении, решительно и смело руководить боевыми операциями меня убедил наш первый рейд по району. Он начался с двух небольших столкновений с гитлеровцами. Разведчики, возглавляемые А. А. Черкасовым и В. А. Козловым, натолкнувшись в районе деревень Пески и Ключки на фуражиров какой-то немецкой части, атаковали их с ходу. Были взяты первые пленные и первые трофеи. В числе их несколько автоматов. Бойцы радовались — с автоматическим оружием у нас было не густо. А точнее плохо —18 автоматов на четыре сотни партизан. Правда, столько же пулеметов.
Вторая встреча с врагом произошла 7 января 1943 года. В этот день около пятидесяти фашистов направились к деревне Ровново. Группы партизан, руководимые К. К. Сентеревым и Г. И. Рыбкиным, навязали бой противнику и вынудили его к бегству.
Константин Калинович Сентерев работал до войны шофером в Идрице. В бригаду пришел в октябре сорок второго. В отряде знали о трехлетней ревностной службе Сентерева в рядах армии, и командир всегда его называл сержантом.
Вечером этого же дня бригада в полном составе двинулась в путь. Штаб шел с отрядом «Смерть оккупантам», который на рассвете 8 января должен был окружить деревню Александрово. Отряд «25 лет Октября» имел задачу перекрыть дорогу на Александрово от деревни Кунглово, где размещалась воинская часть гитлеровцев. «Рождественский визит» в Синьозерье комбриг приказал нанести отряду имени Жданова. Наиболее трудное задание выпало на долю отряда имени Кирова, который находился в арьергарде. Бойцы его должны были взорвать 40-метровый мост через Синюю на шоссе Мозули — Опочка.
Отряды точно выполнили приказ. Около полуночи синьозерские господа уже не подымали бокалы, а, съежившись, будто усохшие, ожидали решения своей участи. Их гости — полицаи были еще раньше встречены пулеметным огнем. В имении партизаны уничтожили два склада (в одном из них находилось более 100 тонн сена), тракторы, сельскохозяйственный инвентарь. В наши руки попали различные документы оккупационных властей, касса. В скотных дворах стояло 60 коров, 20 лошадей, много овец и свиней.
— Хлеб, скот раздать населению,— распорядился комиссар бригады.
— Господ расстрелять,— приказал комбриг. — А вы все,— обратился он к столпившимся у здания рабочим имения,— марш по домам!
Без особого труда заняли мы и Александрово. Комбриг, осмотрев здание волостной управы, сказал мне:
— Придется тебе, Николай Михайлович, взять на себя функции начальника особого отдела. Накроем старост, когда они начнут прибывать на сбор в управу. Разберись с каждым. Думается, не все они, подобно синьозерским хозяевам, враги.
— Разберемся,— ответил я.— Кто подлец первостепенный, подскажут местные товарищи.
В партизанских формированиях Калининской области, в отличие от ленинградских бригад, не было особых отделов. Не берусь и сейчас, спустя много лет, судить о правильности того или другого решения данного вопроса. У нас функции особистов часто выполняли командиры разведки. Иногда мы передавали вражеских агентов и документы командирам спецгрупп.
Вскоре в деревню один за другим стали приезжать ничего не ведавшие деревенские старосты. Их довольно невежливо встречали наши бойцы и доставляли в «особый отдел». Вместе со мной следствие вели заместитель комиссара бригады II. Г. Романов, комиссар отряда Н. А. Волков и лейтенант А. В. Андреев.
33 деревни — 33 старосты. Отщепенцев, чьими поступками двигали недовольство Советской властью, корысть, желание обогатиться, было немного. Большинство — люди, проявившие малодушие в трудный час.
Трус, не запятнавший себя кровью односельчан и предательством, может еще искупить свою вину, лишать его жизни не стоит. Так рассуждали мы — «следователи». Так решил и открытый партизанский суд. Восемь старост были приговорены к расстрелу, а двадцать пять, получив предупреждение (некоторые и наши задания), были отпущены по домам.
Помнится, подошли мы с Андреевым после суда к группе местных жителей. Алексей Васильевич спросил:
— Ну как, товарищи, верен наш приговор?
В ответ раздалось несколько голосов:
— Судили по закону и по совести.
— Поступили верно.
— Каждому по заслугам.
— Прижмут теперь хвост другие подлецы.
Удалась и диверсия на реке. Вначале команда отряда Поздняков думал взорвать мост в ходе боя овладев зареченской частью деревни Мозули. Е противник оказал упорное сопротивление. Тогда Поздняков приказал командирам подрывных групп Николаю Павлюченко и Владимиру Золотареву погрузить тол на лыжи (два заряда по 25 килограммов), подползти к мосту, заложить мины под его опоры с двух сторон.
Оба командира групп — ребята отчаянные. Павлюченко —18 лет, Золотарев на год моложе. Комсомольцы. Володя — москвич, Николай —- из Идрицкого района. Молоды, но не зелены, обучались подрывному делу в спецшколе. Оба, получив задание ответили по-флотски:
— Есть!
Вскоре раздалось два сильных взрыва.
Все дни—8 и 9 января — усиленно трудились наши политработники. По несколько раз в день выступали Романов, Павлова, Сауликова и другие коммунисты и комсомольцы. Беседовали на сходках в деревнях, в хатах —в крестьянских семьях. О том, что фашистам крепко досталось под Москвой, слухи сюда просочились. А вот о выходе нашей армии на рубеж Ржев — Велиж — Великие Луки население не знало. Весть эта воспринималась с большой радостью.
Наши действия, как и следовало ожидать, не остались незамеченными командованием охранных войск противника. Однако поначалу военные коменданты Красногородска, Опочки и Себежа не разобрались, с кем имеют дело, и приняли нас за десант Красной Армии. Позже о «ликвидации» его даже была опубликована заметка в фашистской газетке, издававшейся на русском языке.
Сразу же против нас были брошены подразделения автоматчиков. Одно из них (небольшое) утром 9 января завязало перестрелку с отрядом Ветковского. Комбриг приказал к месту боя направить два взвода из других отрядов. Перевес сил оказался на нашей стороне, и фашисты отступили.
— Разведка боем,— оценил я ситуацию, получив донесение Ветковского.
—На сегодня — все,— высказал свое мнение Лебедев.— Больше не сунутся. А вот завтра полезут значительными силами. Нужно хорошенько укрепиться на высотах вблизи Кунглово. Слова комбрига обрели форму приказа. И бойцы отрядов «Смерть оккупантам» и «25 лет Октября» основательно потрудились в течение ночи, укрепляя оборону высот.
О первых боевых делах бригады следовало сообщить начальству, но, увы, рации у нас не было. Калининские партизаны в этом отношении были пасынками. Наши соседи — и белорусы, и ленинградцы, и латыши — имели уже в 1942 году радиосвязь со своими штабами. 10-я Калининская бригада получила рацию лишь накануне 1-го мая 1943 года.
А тогда мы обратились в спецгруппу Подгорного. Командиром Подгорный был энергичным, но любил славу и власть. Нашу сводку о захвате Синьозерья и Александрово он включил в свое донесение. Оно попало в оперативную сводку штаба партизанского движения на Калининском фронте от 1 февраля 1943 года.
Утром 10 января гитлеровцы открыли по нашим позициям артиллерийский и минометный огонь. От зажигательных снарядов в деревне загорелись дома. Затем застрочили крупнокалиберные пулеметы противника. Мы отвечали редко. Мороз был сильный, видимость плохая. Командиры отрядов Рожко и Ветковский правильно рассудили: «Партизаны находятся в укрытии, а солдаты неприятеля вынуждены залечь в открытом поле. Пусть себе лежат, сколько им заблагорассудится».
Но вот пушки и минометы умолкли, гитлеровцы (их было человек двести пятьдесят) цепями стали приближаться к высотам. Партизаны усилили огонь и заставили атакующих вновь зарыться в сугробах. В это время в штаб бригады пришло сообщение разведки: крупная вражеская часть на подходе с запада.
Прочитав донесение, я сказал комбригу:
— Михаил Арсентьевич, бой у Кунглово нам необходимо выиграть во что бы то ни стало до подхода свежих сил противника.
— Что предлагаешь?
— Сейчас же использовать наш резерв. Пусть отряд Позднякова ударит во фланг противнику.
— Правильно,— согласился Лебедев.
И вот в самый напряженный момент боя партизаны во главе с Поздняковым и Федоровым обрушились на фланг гитлеровцев. Это решило исход боя. Под прикрытием огня артиллерии противник начал отходить по шоссе в сторону Красногородска.
Поздно вечером в деревне Александрово состоялось накоротке совещание командного состава. Были отмечены умелые действия командиров взводов Рыбкина, Сентерева, Балакшина, Хмелевского, групп разведчиков под командованием Осипова и Андреева. Следует заметить, что разведка все эти дни велась у нас отлично и мы были в курсе сосредоточения сил противника. А собрал он их немало — до тысячи солдат и офицеров.
— Рассчитывать на разгром противника в завтрашнем бою, — сказал в заключение комбриг,— мы не можем. Но и без боя отойти не имеем права. Значит, наш успех должен строиться на выгодности позиций, на стойкости бойцов, на маневре. Наутро враг сделает попытку окружить нас здесь, а мы тем временем должны быть на высотах у деревень Малыгино, Кресты и Масловка.
Бригада предприняла маневр, отойдя на 5—-6 километров восточнее, поближе к лесисто-болотистой местности. А утром начался бой, продолжавшийся дотемна. В самом начале неприятель допустил ошибку, пытаясь окружить Александрово. В этих целях одно из его подразделений двигалось по шоссе из деревни Гривки к деревне Переузино. Гитлеровцы сложили свое оружие на подводы. И были наказаны за эту беспечность: из засады по колонне открыли огонь отряды Рожко и Позднякова.
Противник понес большие потери, а главное — пришел в замешательство. Ему пришлось перестраивать все свои планы. Мы же выиграли время.
Гитлеровцам, видимо, стало известно, что штаб нашей бригады находится в деревне Масловка. К середине дня противник сосредоточил на подступах к ней свои силы, и там развернулись упорные бои. Вокруг Масловки, расположенной на высоте, простиралось большое поле. Снегу лежало на нем предостаточно, и ворваться в деревню было нелегко. И все же фашисты делали одну попытку за другой. Шли они в белых халатах во весь рост, беспорядочно стреляя из автоматов. Мчались на санях, строча из пулеметов. Но всякий раз нарывались на наш точный огонь. Партизаны удачно использовали складки местности, постройки.
Попытка противника сходу прорвать нашу оборону у деревни Масловка захлебнулась. Тогда он решил вклиниться между отрядами Рожко и Позднякова, оборонявших деревню Малыгино. В момент перегруппировки своих сил гитлеровцы подвергли наши позиции сильному обстрелу из орудий и тяжелых минометов.
То было неистовство взбешенного врага. Осколочный град падал всюду, загорелись постройки. Пламя перебрасывалось с одной соломенной крыши на другую. Комиссар подозвал к себе Павлову:
— Спасать надо жителей, Анастасия Васильевна. Бери в помощь Сауликову. Вараксов выделит вам бойцов из взводов Орехова и Сосновского, и эвакуируйте спешно всех в лес юго-восточнее Масловки.
Стали нести потери и мы. Осколки ранили многих. Невзирая на смертельную опасность, наши медики Аркадий Ярдаков, Анастасия Морозова, Валентина Щелкунова бесстрашно спешили туда, где раздавался стон или крик. Вот кто-то из них метнулся к гумну, где в канаве, идущей вдоль постройки, расположил свой «командный пункт» комбриг. Я в это время с Егором Самоучкиным — ординарцем, вооруженным ручным пулеметом, находился в картофельной яме, неподалеку от Лебедева. Я приказал Самоучкину:
— Быстро к комбригу.
Егор вернулся через несколько минут, доложил:
— Плох наш командир. Зажигательный угодил в стенку гумна. Комбриг оглушен. На нем горела шуба, шапка, валенки.
— Помощь оказана?
— Да. Почти сразу. Там комиссар.
— Вскоре к нам подошли Козлов и Романов. Были они мрачны.
— Вот что, Николай Михайлович,— сказал комиссар, — Лебедев тяжело контужен и, очевидно, надолго вышел из строя, так что принимай командование бригадой. Считай это решением подпольного райкома партии.
Возражать было некогда, да и по существу все было правильно. Началась опять атака гитлеровцев. Я поспешил в боевые порядки отрядов. Отовсюду шли донесения: боеприпасы на исходе.
Мы отразили атаку. Горизонт начал сереть, и фашисты прекратили наступление.
— Ишь ты,— зло усмехнулся Дорош,— ужинать собрались. Точно по расписанию.
— Ну и пусть себе. У нас будет время что-то предпринять. Что думает по этому поводу начальник штаба? — спросил я.
— Патроны, — тоскливо ответил Захар Леонтьевич.
Подошел Солдатов:
— Товарищ комбриг...
Я прервал начальника разведки:
— Комбриг вышел из строя, но он в бригаде. Называйте просто товарищ командир.
— Товарищ командир, вернулся Шуваев с ребятами. К немцам подошло подкрепление. До роты. Сейчас отдыхают. Жгут костры.
— Худо. Завтра бой принимать нельзя. Лейтенант,— повернулся я к Дорошу,— передайте командирам отрядов: пусть готовят людей к маршу. Отдыха не будет.
Комиссар бригады поддержал мое решение. Отряды стали сосредоточиваться для марша. Гитлеровцы вели методический артогонь по нашим позициям. Козлов неторопливо расспрашивал командиров об отличившихся в бою. Назывались имена А. Е. Буланова, Ф. Е. Осипова, М. Т. Баркова, С. Н. Моргачева, П. В. Зудилина, Н. А. Маликова, А, Л. Малышева, И. Г. Евсеева, И. М. Пащенко, Д. С. Макеенко, С. С. Чапкевича, В. Ф. Слесаренок, И. М. Лабецкого, И. Э. Тучинского и других. Тяжело раненный, не оставил боевого поста и разил фашистов из пулемета, пока билось сердце, Сергей Поляков — молодой партизан.
Уходили в ночь на 12 января. После тяжелого боя. Без отдыха. Под обстрелом. Где-то за полночь вступили в пределы Себежского района. На подходе к полотну железной дороги в одной из деревень подводы с ранеными были обстреляны с чердака пулеметным огнем. Поднялась паника. Раненые стали расползаться по кустам. Наши санитарки проявили исключительную выдержку и смелость. Нашли всех до единого. Владимира Расторгуева Зина Плюскова искала более часа. Он настолько ослаб, что не мог подать голоса и лежал уже в беспамятстве. Действовал железный партизанский закон: в беде не оставлять.
Через сутки бригаду догнали наши разведчики, доложили: в бою за Масловку и Малагино противник потерял только убитыми свыше ста солдат и офицеров. Свою злобу нацисты выместили на мирных жителях. В подвале сгоревшего дома укрылась семья Мартыновых — восемь человек. Старшей из них было 80 лет, младшей, Тане,— 2 года. Всех их расстреляли. Очевидец этого зверства Сергей Ларионович Мартынов живет сейчас в Красногородском районе. Он был в числе расстрелянных, но вскоре пришел в себя и полз, будучи трижды ранен, по снегу всю ночь, пока его не подобрал Павел Дмитриевич Дмитриев — житель деревни Вишняки.
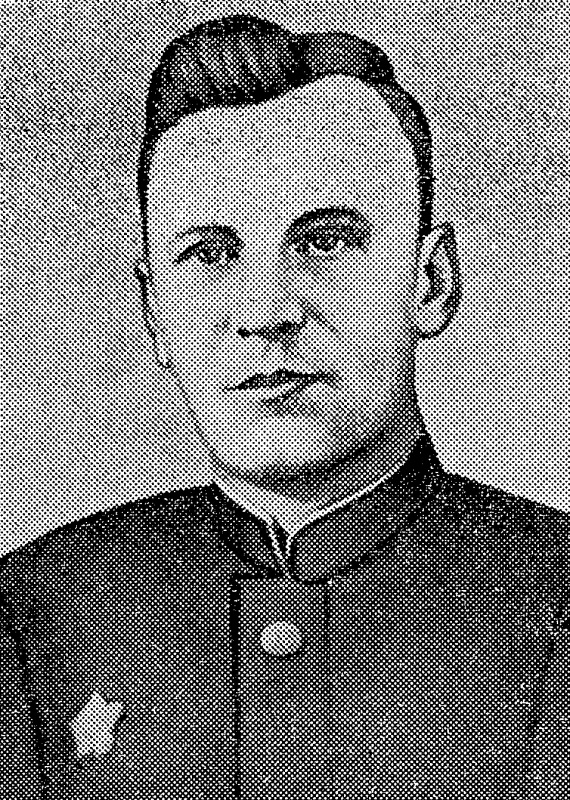 |  |
| Н. М. Вараксов - командир 10-й Калининской партизанской бригады | М. С. Орлова (Федорова) - комсорг отряда |
В конце января и в первые дни февраля бригада базировалась в деревне Брод. 56 человек новеньких дали здесь клятву на верность Родине — приняли партизанскую присягу. Приход в наши ряды местных жителей благотворно сказался на упрочении связей с населением деревень в районе боевых действий бригады. Кроме того, мы укрепили подразделения разведки людьми, хорошо знавшими окрестные леса.
Все, кого мы приняли в отряды, показали себя в боях. Среди них не оказалось малодушных, и никто в дальнейшем не страдал «болезнью», которая называется «партизанская вольница». Правда, у нас от нее избавлялись довольно быстро. «Главным лекарем» был наш комиссар. Ему помогали коммунисты — в феврале 1943 года партийная организация бригады состояла из 46 членов и кандидатов в члены ВКП(б).
Особенно много среди пополнения было молодежи. Машу Орлову, молоденькую учительницу, начало войны застало в Москве. А через несколько дней девушка уже рыла окопы на границе с Латвией. Окопы эти не стали преградой для фашистских танков. Гитлеровцы оккупировали район. Маша не покорилась врагу и стала одной из помощниц Орехова, Федорова и других членов славной «Восьмерки».
Санитарка, рядовой боец, связная. И страстный агитатор. В крестьянских избах Красногородского и Себежского районов часто звучал взволнованный голос партизанки Орловой. Прочтет сводку Совинформбюро. Расскажет о делах партизанских. Посоветует, как лучше саботировать экономические мероприятия оккупационных властей. И нередко в это же время в деревне находились полицаи.
Лена Еремеева была еще моложе, чем Маша Орлова. В 1941 году она окончила восемь классов в городе Пушкине, под Ленинградом. А пришла к нам, уже имея боевой стаж. Распространяла листовки в деревне Гречухи, куда привели семью Еремеевых превратности военной судьбы. В составе одного из отрядов 2-й Калининской партизанской бригады участвовала в тяжелейших боях с карателями в Невельском районе и в Белоруссии. У нас Лена стала смелой разведчицей и подрывником.
— У Еремеевой золотые руки — промашки не ведают,—говорил о Лене командир отряда Жуков.
— И цепкие глаза. Все замечают в разведке,— вторил командиру комиссар отряда Волков.
Как-то прочитал я в одной из мемуарных книг: «Взрывы на дорогах — соль партизанской жизни». Верные слова. В биографии партизанки Елены Еремеевой много было такой «соли». И на шоссейных дорогах к Себежу и Опочке. И на стальных магистралях Резекне — Новосокольники. И на обычных проселках, когда по ним двигалась фашистская техника.
В Себежском и Идрицком районах в начале 1943 года уже действовали крупные партизанские силы. Отряд Владимира Ивановича Марго (о нем я уже упоминал) превратился в бригаду, и о ней шла добрая слава. Бригада под командованием лейтенанта Федора Бойдина пришла сюда во время рейда партизанского корпуса и сразу довольно громко заявила о своем присутствии. Но и у Марго, и у Бойдина, как и у нас в междуречье, были предшественники. Я акцентирую внимание на этом лишний раз только для того, чтобы подтвердить главную черту развития партизанского движения: не было такого уголка на оккупированной земле, где бы уже в первые месяцы войны не действовали непокоренные патриоты земли советской. Один человек. Три. Группа. Маленький боевой отряд. Ячейка подполья. Но были!
В районе нашего нового базирования население хранило память о первом партизанском отряде — «сергеевских ребятах». Так называли партизан по имени их бесстрашного командира сержанта Сергея Моисеенко. Как-то зашел у нас разговор об этом отряде с командирами разведки. Присутствовавший в штабе Константин Сентерев и говорит:
— А в нашем взводе один паренек хорошо знал Сергея, оружие ему доставал.
— Кто такой? — поинтересовался Козлов.
— Петька Власов. Молодой еще, но боец что надо. Он в бригаду пришел еще осенью. Когда вблизи здешних мест мы формировались.
Ни у меня, ни у комиссара не нашлось тогда времени поговорить с Власовым. О чем очень сожалею, Вскоре в одном из боев он был ранен. След его затерялся. Можете представить мою радость, когда совсем недавно я узнаю: Петр Андреевич Власов здравствует, работает в городе Себеже.
До войны семья коммуниста Андрея Лукича Власова проживала в себежской деревушке Малеево, Андрей Лукич был председателем колхоза. Осенью сорок первого года он и напутственным словом, и оружием, и провиантом поддержал красноармейцев, положивших основу «Сергеевскому отряду» партизан. Гитлеровцы арестовали Андрея Лукича и расстреляли в Себеже. Связей с партизанами Власовы не утратили. Петр Власов и его мать Пелагея Максимовна по-прежнему помогали «сергеевским ребятам». Оправившись после ранения, Петр попал в белорусскую партизанскую бригаду, в состав которой входил теперь отряд имени Сергея Моисеенко. Разыскал Власова уже в послевоенные годы комиссар «сергеевских ребят» Разитдин Инсафутдинов. Они и сейчас друзья.
Росли ряды калининских партизан. Наращивало мощь партизанское движение в Белоруссии. Усиливали боевую активность народные мстители в Латвии. С осени 1942 года партизанские отряды начали освобождать от оккупации многие населенные пункты. Так на стыке трех братских республик — Белоруссии, Латвии, России — образовался партизанский край. В него входили территории Россонского, Освейского, Дриссенского районов Витебской области, добрая половина Себежского, Идрицкого и часть Пустошкинского районов Калининской области. Край большой: с севера на юг — 80 километров, с запада на восток — все 100. Назвали его Братским — в честь боевого содружества партизан — белорусов, латышей и русских.
Мы появились в этом районе, когда фашисты обрушили на него одну за другой две крупные карательные экспедиции под кодовыми названиями «Заяц-беляк» и «Зимнее волшебство». Понимая исключительное значение края (плацдарм для наступательных операций партизан, близость к стратегически важным железным дорогам), гитлеровское командование двинуло против народных мстителей кроме охранных войск пехотные подразделения вермахта, танки, артиллерию, авиацию. В экспедиции «Зимнее волшебство» число карателей, достигло 20 тысяч. Возглавлял их обергруппенфюрер СС и генерал полиции Еккельн.
С конца января до середины марта шли кровопролитные бои. Объединенные партизанские силы маневрировали, наносили удары по противнику с флангов. 10 февраля у белорусского села Павлово разыгралось целое сражение. От калининских партизан в нем участвовали отряды бригад Бойдина, Гаврилова и Марго. Пытаясь закрепиться в Павлове, фашисты потеряли только убитыми около двухсот человек. И все же враг вынужден был под покровом ночи покинуть село.
В боях по защите края отличились бригады П. В. Рындина, В. Г. Семина, С. Д. Буторина. Наши отряды в те февральские дни проводили одну за другой диверсионные акции на дорогах, идущих к Братскому партизанскому краю. Так, сводный отряд под командованием начальника штаба бригады подорвал рельсы на перегоне Зилупе — Себеж. 156 взрывов раздалось в ту ночь. Полностью был разрушен путь протяженностью один километр. Одновременно там же мы уничтожили 80 метров телефонно-телеграфной связи. Через двое суток группы партизан отряда имени Жданова спустили под откос воинский эшелон, следовавший от Себежа к Зилупе. В результате крушения были разбиты паровоз, четыре крытых вагона, 6 платформ, груженных автомашинами. Командовал операцией начальник штаба отряда Владимир Александрович Авдохин.
Это был второй воинский эшелон, записанный на боевой счет бригады. Первый мы подорвали 25 января на латышской земле, в районе станции Скангали. Героем подрыва была комсомолка Таня Коновалова, окончившая до прихода в бригаду спецшколу ЦК ВЛКСМ. Группа подрывников под командованием Коноваловой долго лежала вблизи насыпи железной дороги, наблюдая за частыми патрулями. Ночь стояла морозная. Скрип снега был слышен издалека. Светила луна. Все просматривалось окрест. Замерзли бойцы, изнервничались. И только Таня оставалась внешне спокойной, изредка вполголоса подбадривала ребят:
— Чего приуныли? Ждать то ли в засаде, то ли у железки — половина партизанской жизни. Подождем еще немного.
После полуночи на небе появились кучевые облака. Они скрыли луну.
— Пора! — скомандовала Таня...
Объект оказался богатым: 6 классных вагонов (данные были после проверены агентурной разведкой) с живой силой врага и 9 платформ с боевой техникой и боеприпасами. Удаляясь от места диверсии, подрывники долго еще слышали взрывы детонировавших снарядов.
Взрыв произвела Таня. Под рельсы была уложена самодельная мина. За этот подвиг Коновалова была награждена орденом Красного Знамени. Награду ей вручали в Москве.
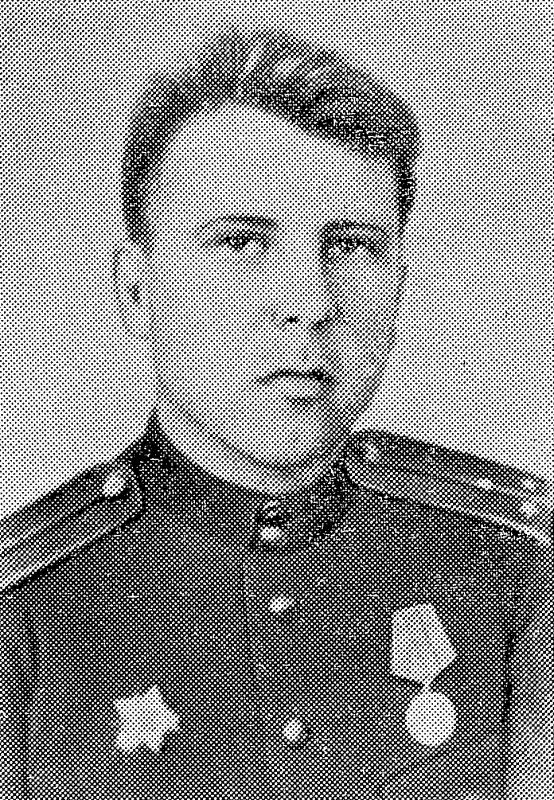 | 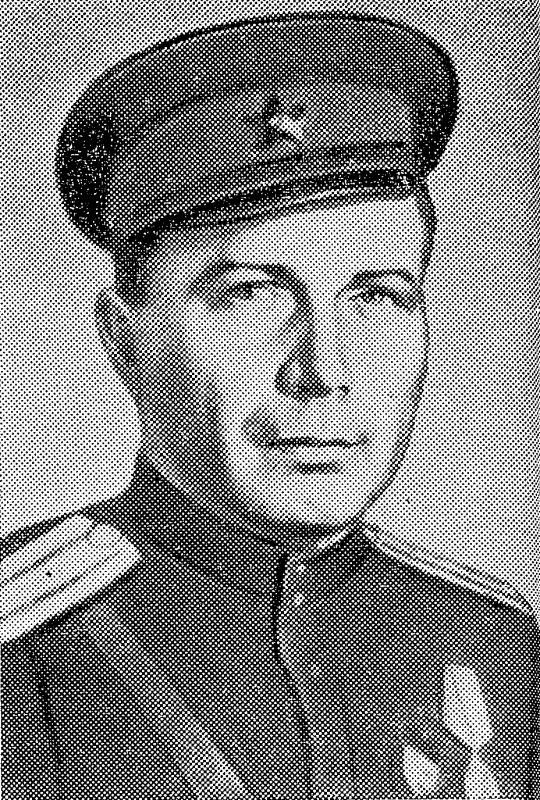 |
| В. А. Авдохин - начальник штаба бригады | А. И. Штрахов - уполномоченный штаба партизанского движения Калининской области |
Весь февраль гремели взрывы и выстрелы на дорогах и к партизанскому краю и в междуречье. Вот выписка из журнала боевых действий за один день:
«18.2.43 г. На дер. Пащерино, где дислоцировался отряд «25 лет Октября», повела наступление выехавшая из Мозулей группа немцев до 100 человек с задачей уничтожить партизанский отряд. В результате боя за район дислокации убито 12 карателей, количество раненых не установлено. Немцы, не выдержав боя, отступили в гарнизоны Мозули, Бальтино».
«18.2.43 г. Группа партизан отряда «25 лет Октября» уничтожила телеграфно-телефонную связь на расстоянии 900 метров на шоссе Идрица — Мозули в районе деревни Пески».
«18.2.43 г. Группа партизан отряда «Смерть оккупантам» организовала засаду на шоссе Красногородск — Карсава. Уничтожены 3 автомашины, груженные артиллерийскими гильзами. Уничтожен мост шириною 8 метров, длиною 11 метров».
И так день за днем. А в конце месяца по приказу уполномоченного штаба партизанского движения майора Алексея Ивановича Штрахова мы направили в помощь партизанам, отбивавшим натиск карателей на Братский край, отряд имени Жданова. Он две недели находился в районе жарких боев, участвовал в разгроме гитлеровцев в районе Освеи, держал оборону в деревне Церковка. Командир Жуков и его подчиненные заслужили похвалу руководства объединенными силами защитников края.
Операция «Заяц-беляк» потерпела фиаско. Не смирило непокоренный край и «Зимнее волшебство». Экспедиции не принеси командованию групп армий «Центр» и «Север» желаемого. В лютой злобе каратели уничтожали все живое на пути отступления. Только в Освейском районе Белоруссии они сожгли 158 населенных пунктов. Горели деревни, дома вместе с их обитателями. Земля горела. Но оставшиеся в живых крестьяне по-прежнему помогали партизанам.
Твердые шаги
Март 1943 года. Две трети нашей бригады находятся в междуречье, остальные в Себежском и Идрицком районах. Чаще действуем из засад. 3 марта боевая группа Константина Сентерева у деревни Демиденки напала на гитлеровцев из гарнизона Заситино, направлявшихся на очередной грабеж в деревню Козырево. Солдат было более 70 человек. Все хорошо вооружены. У партизан два преимущества — внезапность нападения, знание местности... Оставив на дороге девять убитых и несколько подвод, фашисты ретировались в гарнизон.
7 марта разведчики Александр Куклев, Федор Иванов, Валентин Косткин, Николай Глинский, Егор Тереня, Виктор Кузьмин, Николай Вилей, Александр Лебедев, Сергей Величко, Нина Петраченко и Риф Габайдулин под командованием Сергея Шуваева, находясь на северо-западе Красногородского района, устроили засаду на дороге между деревнями Лямоиы и Гавры. Меткий дружный огонь их преградил путь взводу гитлеровцев, отправившихся из Гавров на какое-то задание. Трофеи смельчаков — оружие убитых, много патронов.
В деревне Лямоны располагался полицейский гарнизон. Небольшой, но уж очень рьяные служаки собрались в нем. Решено было ликвидировать это осиное гнездо. Поручили «приговор» привести в исполнение взводу Шуваева. Лихой разведчик Леонид Егоров рассказывал позже:
«Морозной ночью мы тихо подъехали на лошадях к деревне. Устроили засаду на шоссе Красногородск — Лямоны на случай, если фашисты по пытаются подбросить подкрепление своим прихвостням. Только хотели идти к околице, как вдруг заметили подростка на дороге. Остановили. Спрашиваем:
— Как зовут?
— Толькой.
— Откуда идешь так поздно?
— Из Котляровки. У родственников был.
— А полицаи в Лямонах есть?
Отвечал бойко паренек и вдруг насторожился. Смотрит исподлобья:
— А вы кто такие?
— Партизаны мы.
— Полицаи вы, только не лямонские. Тех я всех знаю.
— Чудак парень,— приблизился к Анатолию Шуваев,—ты ж посмотри — на мне фуражка морская и тельняшка, а краснофлотцы разве могут быть полицаями?
— Не могут,— согласился Толя и отчеканил: — Вы — партизаны, я — пионер. Пойдемте помогу!
Толя Терентьев рассказал, что видел несколько полицаев на гулянке в Котляровке. Они собирались домой. Шуваев остался встречать загулявших предателей, а мы во главе с Владимиром Петровым вошли в деревню. У казармы Петрова и Терентьева окликнул часовой. Толя закричал:
— Это я, Толька Терентьев. С дружком с масленицы идем. Бутылка самогона есть.
Терентьев жил рядом с казармой, его знали. Часовой пригласил:
— Давай сюда. Пригубить спиртного на морозе не...
Договорить он не успел. Рука у Петрова была тяжелая и верная. Пять минут грохота и одурелых криков спросонья — и с полицаями было покончено. А возвращавшихся с гулянки мы задержали, судили и уничтожили как изменников Родины. Уходя, договорились еще раз встретиться с Анатолием, задание ему дали.
Не состоялась эта встреча. Утром в Лямоны примчались гитлеровцы. По дороге они подобрали тяжело раненного полицая, притворившегося при партизанах мертвым. Он выдал маленького героя. Фашисты расстреляли Толю и вместе с ним его мать и сестру».
 | 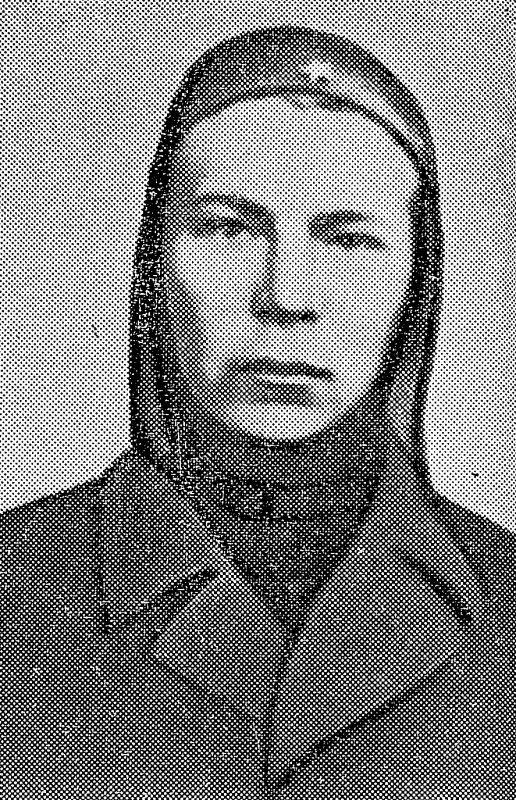 |
| Л. З. Егоров - партизан-разведчик | В. И. Величко - партизан-разведчик |
Много смелых дел было на боевом счету у бригадных разведчиков. И немалая заслуга в этом их командира Сергея Степановича Шуваева. Высокий, с тяжелой силой в плечах. Под темными дугами бровей пытливые, чуть насмешливые глаза. Надо было видеть, каким яростным гневом загорались они, когда в решительный момент он поднимался в атаку с криком:
— Полундра! За мной, ребята! Круши гадов!
Сергей никогда не расставался с морской фуражкой. Бывало, скажут ему товарищи:
— Серега, одень что-либо потеплее. Ведь зима все-таки.
Усмехнется в ответ:
— В ней начал воевать, в ней и до Берлина дойду.
Был неразговорчив. Из скупого рассказа его знали, что служил он на корабле, а воевал в морской пехоте, попал контуженным в плен, бежал. Сам ленинградец. Автор питает надежду, что, прочитав эти строчки, откликнутся родные нашего героя и его боевые товарищи по службе на Балтике. Пас Шуваев разыскал при формировании бригады осенью сорок второго.
Под стать командиру были и другие бригадные разведчики. Помкомвзвода Володя Петров — человек гордой отваги, весельчак, гармонист. Сержант Александр Куклев — смелый и осторожный разведчик. Григорий Петров — ни при каких обстоятельствах не унывающий восемнадцатилетний паренек, готовый идти на самое отчаянное дело.
Среди разведчиков отрядов были люди среднего возраста: Иван Степанович Богданов, Семен Дмитриевич Дмитриев, Афанасий Кириллович Хандашев, Герасим Ефимович Ефимов, Иван Григорьевич Баранов, Василий Александрович Чухнов, Николай Никандрович Орлов. За плечами у каждого — годы работы, армия, у некоторых и боевой опыт.
Были и молодые ребята. Леонид Егоров в первые дни войны сдавал последний экзамен в педагогическом училище. А Володе Величко в сорок первом шестнадцать исполнилось. Однако к нам он пришел уже обстрелянный — партизанил в отряде Карпенко, был ранен.
В начале марта в бригадной разведке появился свой «доктор». Николай Иванов привел в подразделение медицинскую сестру Валю Михайлову. Девушка скрывалась в деревне Заболотники Себежского района. Ее хотели угнать в Германию. У Михайловой, несмотря на молодость, был фронтовой опыт. В сорок первом она работала в госпиталях с тяжело раненными. Валя быстро прижилась среди суровых мужественных ребят. Она умела быть и поваром, и прачкой. Ходила в разведку, мерзла в засадах.
Разведчики любили своего скромного, застенчивого, смелого «доктора». Валя платила им тем же. Была со всеми приветливой, ласковой. И лишь тому, кто ее встретил первым, уделяла внимание немножко больше... Они и сейчас по жизни идут рядом — Николай Павлович Иванов и Валентина Николаевна Михайлова, радуя своей дружбой, пронесенной сквозь десятилетия, нас — бывших партизан.
И на успех наших боевых дел в марте, и на усиление политической работы с населением влияли вести о разгроме фашистских армий на берегах Волги. Сталинград. Это слово было на устах у всех. Казалась, сам воздух им пропитан. Как-то ночью после довольно шумного обсуждения одной малоуспешной операции вышли мы с Александром Солдатовым из штабной избы на улицу. Потихоньку вьюжило, но уже не по-зимнему.
— Отчего так зло выступал, старший лейтенант? — спросил я его.
— Полегло много наших.
— Где? — не понял я.
— У Волги. Такая победа завоевывается большой кровью. И она требует,— всегда довольно спокойный Солдатов опять загорячился,— да, да, товарищ комбриг, требует от нас большего. Нельзя, как это...
— Стоп, Александр Михайлович,—-прервал я его.— Уже все обсуждено. Ты прав, но остынь. И скажи мне лучше, не чувствуешь ли ты, чем пахнет?
— Шуткуете, товарищ комбриг.
— Нет, серьезно.
— Весной, наверно.
— А весна приносит что? —продолжал я задавать вопросы своему недоумевающему заместителю.
— Тепло, свежий ветер, половодье.
— Точно, Александр Михайлович. Половодье. Оно сметает все на своем пути. А если половодье партизанское, то и крупные...
— Неужели Савкинский мост? — теперь уже меня перебил Солдатов, сходу разгадав направление разговора.
— Да. Савкинский. Завтра еду к уполномоченному штаба партизанского движения. Знаем об этом пока комиссар, ты и я. Иди спать.
— Уснешь тут...
Это была первая крупная наступательная операция объединенных партизанских сил. 23 отряда партизан, общей численностью 3 тысячи человек, обрушились в ночь на 31 марта 1943 года одновременно на несколько фашистских гарнизонов и главный объект — Савкинский мост.
Комбриги давно мечтали о такой операции. Мост находился на основной железнодорожной магистрали Резекне — Новосокольники, на участке между станциями Идрица — Пустошка. Путь двухколейный. Река Неведрянка неширокая, но мост с двумя фермами, длиною около ста метров. Подходы к нему— болотистая равнина. Да и враг зря время не терял — оборону создал жесткую. Дзоты, минные поля, колючая проволока в четыре кола, на насыпи пулеметные точки, минометы.
Операцией руководили уполномоченные штаба партизанского движения майоры А. И. Штрахов, И. И. Веселов. Основные силы для операции дали бригады А. М. Гаврилова, Ф. Т. Бойдина, А. В. Романова (белорусы), В. Г. Семина. Нашей бригаде отводилась вспомогательная роль: обеспечить тылы штурмующих отрядов со стороны станции Идрица.
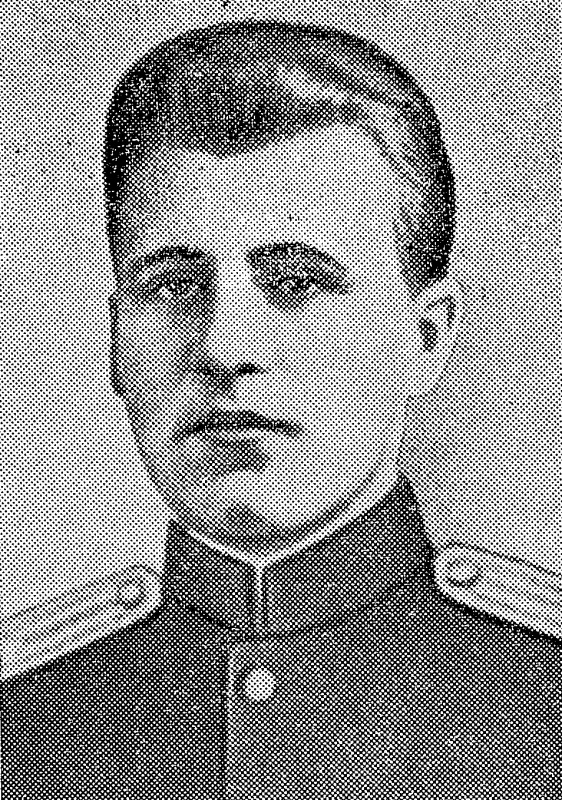
И. И. Веселов - уполномоченный штаба партизанского движения Калининской области
Операция готовилась основательно. Ей предшествовали агентурная разведка, командирская рекогносцировка. Пятидесятикилометровый марш из района сосредоточения сил, несмотря на распутицу, был совершен точно по времени. Незамеченными проскочили отряды шоссейную и железную дороги. В четыре утра две зеленые ракеты прочертили промозглый воздух. Начался штурм.
Два часа продолжался бой у насыпи и в деревне Савкино. Рвались гранаты и мины на подступах к станции Нащекино и поселку Могильно, гремели взрывы и автоматные очереди на дорогах, идущих от Идрицы. Партизаны нашей бригады (отряды И. В. Жукова и П. 3. Позднякова) в это время взорвали большой деревянный мост через реку Ливица на шоссе Пустошка — Идрица, уничтожили телеграфную связь на протяжении полкилометра и, заняв удобные позиции на восточном берегу Ливицы, изготовились к бою. Но удар по Савкинскому мосту был настолько неожиданным и ошеломляющим, что комендант Пустошки не успел выслать помощь. Посланные из Идрицы к Савкину автомашины с автоматчиками натолкнулись на сильный партизанский заслон. И не прошли.
В шесть утра два мощных взрыва возвестили о завершении операции. Одна ферма моста рухнула в воду, вторая, подорванная, повисла над рекой. Движение эшелонов было остановлено на 15 суток, истреблены гарнизоны Савкина, Нащекина, Могильно, уничтожено шесть шоссейных мостов, захвачены богатые трофеи (пулеметы, автоматы, 60 кавалерийских лошадей с седлами, провиант) и пленные. Радость победы омрачила весть о гибели нескольких человек, в том числе и руководителя всего сражения Ивана Ивановича Веселова... Когда дымная заря встала над опаленной огнем землей, партизанское войско уже отходило от железной дороги в южном направлении.
...Стояли первые апрельские дни. По народному поверью щука в это время хвостом легко лед разбивает. Но на озерах Идрицкого района он еще держался, и о нем мы не раз вспоминали в разговоре с Алексеем Ивановичем Штраховым. Я докладывал ему боевую схему разгрома фашистского гарнизона в поселке Сутоки.
Штрахов знал войну не понаслышке, с фашистами дело имел еще до Великой Отечественной — воевал в Испании на стороне республиканской армии в середине тридцатых годов, был комиссаром Калининского партизанского корпуса осенью 1942-го. Он согласился с нашим мнением, что наступать на. гарнизон с севера рискованно. Там шоссе проходит и железная дорога, и противник быстро сможет перебросить подкрепления из крупных гарнизонов в Пустошке и Идрице.
Южное направление тоже было нами отвергнуто. Партизаны других бригад однажды пробовали прорваться из леса к поселку, но безрезультатно. После этого гитлеровцы сильно укрепили южный район. Здесь были сосредоточены главные огневые средства гарнизона. О них я имел точные данные от наших разведчиков. Вот тогда Алексей Иванович и спросил:
— Каково состояние льда на Сутокском озере?
— Лед еще крепок, но у берегов уже полоса воды шириной метров двадцать. Не будь ее, один из отрядов послал бы на штурм по льду.
— Но и позади выбранной вами позиции есть озера и речки,— не сдавался Штрахов.— Коль не удастся ворваться в Сутоки, противник прижмет нас к этой водной системе с непрочным льдом.
— А мы обязательно ворвемся, Алексей Иванович. Отхода без победы не будет. Это не только мое мнение, но и комиссара бригады Козлова, начальника разведки Солдатова. Советовались мы с командирами и комиссарами отрядов.
— Ну коли так, действуйте,— улыбнулся Штрахов и официальным тоном сказал: — Приказываю,товарищ комбриг, разгромить сутокский гарнизон оккупантов.
Сутоки считались крепким орешком. Гарнизон — почти три сотни гитлеровцев и полицаев. Вооружение: пушка, минометы, девять пулеметов, у всех немцев автоматы. Проволочные заграждения имелись в изобилии, на предполагаемо опасных направлениях протянуты в три ряда. Кирпичные подвалы десяти зданий приспособлены для огневых точек. Всего 24 дзота. Отрыты глубокие траншеи. Но разгрызть этот орешек следовало во что бы то ни стало. Он был своеобразным форпостом немецких гарнизонов на железной дороге между Себежем и Пустошкой, охраняя подступы к ним.
Был ли я, давая заверения уполномоченному штаба, твердо уверен в успехе?
Да, был уверен. За плечами отрядов бригады успешные открытые бои, результативные диверсии на дорогах, налеты из засад. От боя к бою бригада превращалась в слаженный, дисциплинированный коллектив.
Штрахов уехал, я вышел на улицу. У деревьев кое-где еще виднелись бурые кольца осевшего снега. Светило солнце. Весенние капли радостно постукивали— тепь, тепь. Апрель входил в силу.
Мы, калининские партизаны, тоже набирали силу, и от этого на душе было спокойно. Итак, решено было штурмовать Сутоки с северо-запада, со стороны болота, окаймляющего озеро. Отсюда партизаны вряд ли нападут, решали мы задачу за противника, местность от поселка совершенно открытая. Датой штурма наметили ночь с 13 на 14 апреля. Нам в помощь Штрахов приказал выделить отряд Александрова из второй бригады и одну пушку.
И вот мы в пути. Идти не близко — более трех десятков километров. Отдал приказ всех встречных людей задерживать, дабы каким-либо образом до Суток не донеслась весть о приближающейся опасности. Установил пароль на операцию: «Дуб — береза».
Необычное задание получил командир отряда Поздняков. Ему во главе усиленного взвода предстояло скрытно подойти как можно ближе к гарнизону с юга, окопаться и открыть сильный огонь, создавая видимость направления главного удара.
— Шуми как можно громче, Петр Захарович— говорил я ему, ставя задачу. — Не жалейте патронов и глоток тоже.Будет сделано, товарищ комбриг,— заверь Поздняков.
— Такой шум подымем, что на кладбище и мертвые очнутся,— добавил политрук взвода Юрий Якимов.
Основной удар наносился с запада на восток силами отрядов «25 лет Октября», «Смерть оккупантам» и имени Жданова. Резерв (командир Солдатов) обосновался на высоте 108.9, где находились командный пункт бригады и Штрахов с группой автоматчиков. Посланный нам на помощь отряд 2-й Калининской бригады под командованием Андрея Андриановича Александрова оседлал шоссе на Идрицу, откуда фашисты могли послать помощь сутокскому гарнизону. На завершающем этапе операции в бой должен был вступить один из отрядов З-й бригады.
Ночь, обычная союзница партизан, поначалу не хотела помогать нам. На небо выкатился месяц. Пришлось перенести начало штурма с 2 часов на 3 часа, Правда, час этот не пропал даром. Командиры присмотрелись к местности, бойцы по-пластунски поползли на исходные рубежи. Ближе всех к противнику расположил своих разведчиков-гранатометчиков Сергей Шуваев.
 | 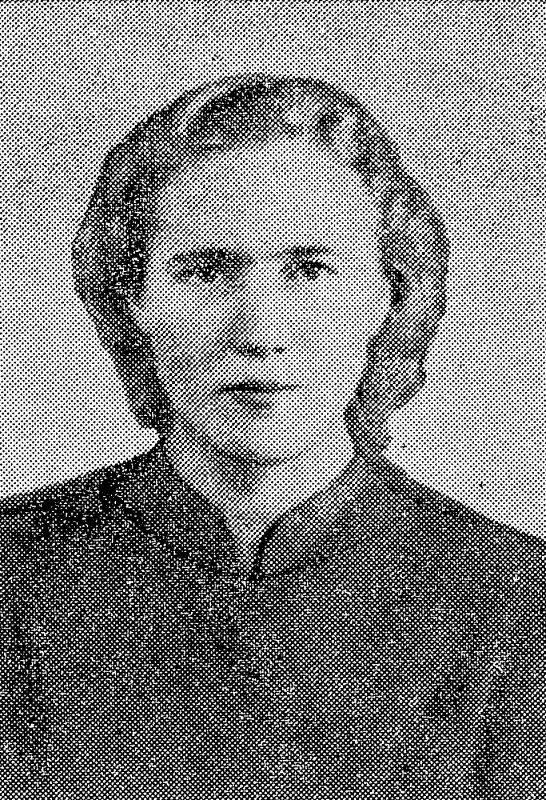 |
| П. Г. Романов - секретарь подпольного райкома ВКП(б), комиссар бригады | В. Н. Бусова (Белова) - политрук взвода |
...3 часа 5 минут. Первый выстрел. Секунда, вторая — и засверкало все окрест. Не стрельба — сплошная канонада.
Молодец Поздняков! Фашисты клюнули на нашу удочку и открыли по отряду огонь из всех видов оружия. Этим воспользовались Шуваев и его товарищи, приблизившиеся первыми к Сутокам,— на пулеметные гнезда, на дзоты обрушился град гранат.
Я дал сигнал ракетами начать общую атаку. Ночь сменила светлые тона на более темные, что было нам на руку, но трассирующие пули освещали низину которую предстояло преодолеть бойцам. И тут гитлеровцы, поняв свою ошибку, начали сосредоточивать огонь по подходам к гарнизону с запада. Часть партизан залегла. Ко мне подошел Штрахов, спокойно сказал:
— Николай Михайлович, промедление — угроза операции.
Я и сам понимал это и крикнул автоматчикам, охранявшим командный пункт:
— За мной, ребята!
Под прикрытием холма мы выбежали на шоссе, идущее от станции Идрица, прыгнули в кювет и поползли к залегшей цепи атакующих. Сзади меня полз Павел Гаврилович Романов. Он всегда старался быть там, где накал боя.
Наше появление в цепи не прошло незамеченным. Рассказывали после, что я, отдавая команды, употреблял и крепкие слова. Может быть. В азарте боя всякое бывает. Одно помню: подбежавшему ко мне командиру отряда Рожко, пытавшемуся что-то доложить, я бросил два слова:
— Ваня, вперед!
Сопротивлялись гитлеровцы ожесточенно. Засев в каменных зданиях школы, больницы и аптеки, они губительным огнем отсекали бросавшихся на штурм партизан. Сопротивление врага сломили гранатометчики Григорий Никитин, Петр Осипов, Эдуард Сипченко, Валентин Косткин, Александр Дмитриев, Виктор Красиков, Николай Прищепов, Поликарп Романов, Федор Слесаренок, Петр Лукашонок, Ива Сосновский, Дмитрий Герасимов. Сергей Шуваев заметил (зарево пожара хорошо освещало улицы поселка) провода, тянувшиеся от одного из домов. «Узел связи»,— догадался он. Как кошка, скользну, под пулеметной очередью к зданию, резко размахнулся и, метнув в окно противотанковую гранату грозно закричал:
— Полундра!
Одним из первых в здание школы ворвался Леонид Егоров. Отважно и умело действовали пулеметчики Виктор Соколов, комсорг отряда Егор Гаврилов, командир группы Иван Федоров. Валентин Ершов выиграл дуэль с вражеским пулеметчиков засевшим на чердаке одного из домов. Владимир Петров вместе с Шуваевым уничтожили огневую точку на вышке. Она долго прижимала к земле наших бойцов. Теперь путь вперед был открыт. Заплатили мы за это дорогой ценой. Последняя очередь врага и упал смертельно раненный Петров.
Были убиты и ранены еще несколько человек. Когда бой переместился в парк, увидел Валю Бусову. Поднимается она с земли, все лицо в крови. Подбежал:
— Ранена?
— Нет,— отвечает.— Пыталась перевязать товарища, но ему уже не поможешь. Это его кровь.
Стоит и рыдает...
От ран, не приходя в сознание, умер отважны разведчик Юзеф Андрюшкевич. Володя Петров страшно мучился перед смертью. Валя Михайлова ни на минуту не отходила от него. Долго стоял у повозки с умирающим другом Сергей Шуваев. Впервые за всю войну по лицу этого волевого человека теш скупые мужские слезы.
К 6 часам утра стрельба стала утихать. Участь гарнизона была решена. Чтобы остыть, скинуть возбуждение от боя, я прошел к западной окраине поселка, прислонился к стволу большой сосны. По дороге к Сутокам наперегонки неслись десятки подвод. Вначале я не понял, откуда они взялись, потом усмехнулся — хозяйственники торопились за трофеями. Впереди на парной двуколке мчался мой заместитель по хозчасти Павел Миронович Миронов.
Трофеи достались нам большие: три исправных пулемета, винтовки, патроны, ящик мин, провиант (одного хлеба несколько тонн), обмундирование, много сапог. В партизанской походной жизни трофеи имели немалое значение.
Разгром гарнизона в Сутоках был заключительным аккордом операции «Савкинский мост». Полный успех при весьма незначительных потерях. Почему так получилось? Точное исполнение командирами отрядов и групп плана налета, бдительность на марше, внезапность — вот слагаемые, обеспечившие нам победу. И конечно, тщательная предварительная разведка, организованная нашим главным разведчиком Солдатовым и заместителями командиров отрядов по разведке Алексеем Васильевичем Андреевым, Александром Алексеевичем Черкасовым и Георгием Аркадьевичем Лапиным.
Штурм Суток получил высокую оценку командования. Начальник Центрального штаба партизанского движения П. К. Пономаренко писал в 1943 году в журнале «Большевик»:
«Такие операции, как операция украинских партизан, разгромивших Сарнский железнодорожный узел... взрыв Савкинского моста и разгром сутокского гарнизона, совершенные калининскими партизанами... войдут блестящими страницами в историю Отечественной войны».
Одна из наших групп подрывников (старший Александр Коваленко) устроила героям штурма Суток своеобразный салют. Ранним утром 14 апреля на участке железной дороги Зилупе — Себеж прогрохотали два взрыва. Коваленко и его товарищи подорвали «блиндированный поезд» противника. Он состоял из 13 платформ. На них были установлены пушка, пулеметы, стояли готовые к бою танки, лежали различные строительные материалы. Поезд этот нес охрану заситинского моста, шел впереди воинских эшелонов, обстреливал прилегающую к железной дороге местность, мог оказать помощь в восстановлении разрушенного пути. В результате взрывов партизанских мин под откос полетели две платформы с танками, паровоз и две платформы с минометными установками.
 | 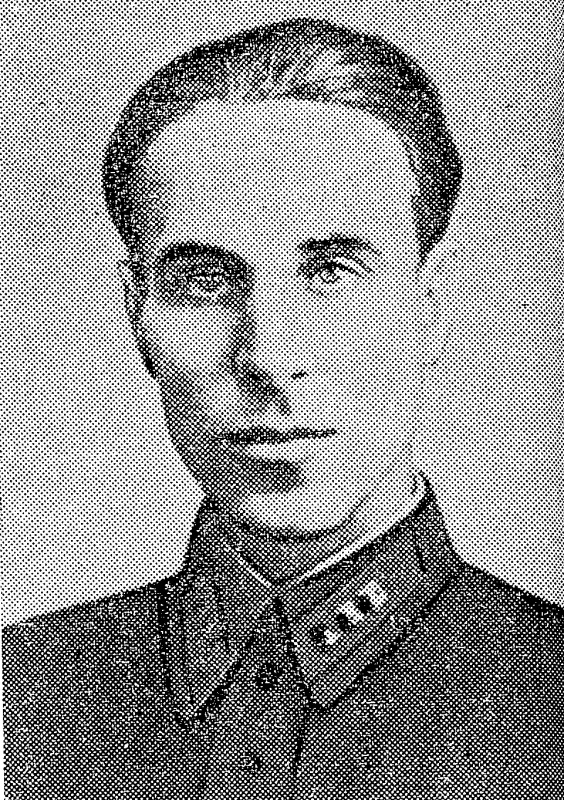 |
| В. Н. Михайлова - медсестра бригады | А. С. Кулеш - секретарь себежского подпольного райкома партии |
Весна обычно для партизан — трудное время, И все же апрель 1943 года для 10-й Калининской был добрым месяцем. Мы провели 11 боевых операций и весьма мало потеряли людей. Шаги наши были теперь твердыми. И пожалуй, лучшее тому свидетельство — повестка дня на объединенном заседании четырех подпольных райкомов партии. Решала вопрос о подготовке и проведении весенне-посевной кампании.
Заседание состоялось в конце апреля. На нем присутствовали первые секретари райкомов: Себежского — Андрей Семенович Кулеш, Опочецкого — Николай Васильевич Васильев, Красногородского — Алексей Алексеевич Козлов, а также комиссар 4-й бригады Владимир Николаевич Вакарин, комбриги Владимир Иванович Марго, Алексей Михайлович Гаврилов, Федор Тимофеевич Бойдин, автор этих строк в представитель штаба партизанского движения Алексей Иванович Штрахов. Председательствовал на заседании Кулеш.
Мы в первый раз собрались вместе все, хотя были друг с другом знакомы и очно и заочно. Самый молодой из нас — Федор Бойдин — был и самым молодым из калининских партизанских комбригов. Накануне войны он окончил артиллерийское училище. Командовал батареей в боях летом сорок первого года под Смоленском. Оказавшись на оккупированной территории, стал партизаном в отряде Федора Зылева. В двадцать один год принял под свое начало бригаду. Худощавый, высокий, неунывающий, улыбчивый, он быстро становился душой компании. По молодости был излишне горяч в суждениях, в боях же — решительным и волевым командиром.
Комбригу Марго было под тридцать, но выглядел он старше своих лет. Солидность ему придавала темная клинообразная бородка, с которой Владимир Иванович не расставался всю войну. Невысокий, плотный, и в разговоре и в движениях сугубо штатский человек. Добродушный, спокойный, и лишь настороженные, отливающие в минуты гнева сталью глаза говорили о недюжинной силе воли партизана — бывшего учителя.
Алексей Гаврилов был кадровым военным. Воевал с первых дней фашистского вторжения в нашу страну. Раненым попал в плен. Совершил смелый побег с группой красноармейцев. Во главе их перешел линию фронта. До командования бригадой ходил часто с отрядом с Большой земли в тыл врага. Я знал его и о его рейдах, находясь в прифронтовой зоне под Великими Луками.
Три комбрига. Разные, но главное — настоящие боевые товарищи. Мне легко было находить с ними контакты. Я всегда чувствовал их локоть.
Итак, впервые в условиях оккупации мы обсуждали задачу мирного времени. Весенний сев. Повеяло Дорогим, близким сердцу, вспомнились горячие посевные будни предвоенных лет. Конкретно были решены вопросы о семенах, о ремонте сельскохозяйственного инвентаря, о помощи крестьянам бойцами, об охране пахарей. Значительное место отводилось проведению разъяснительной работы среди населения. Помню, с какой настойчивостью и страстностью говорил об этом Андрей Семенович Кулеш:
— Люди земли истосковались по настоящей весенней страде. Где и сеют — сеют неохотно, зная, что почти весь урожай отберут оккупанты. Давайте придем в деревни и скажем крестьянам: «Не бойтесь. Сейте больше и лучше. Обещаем — не дадим про клятому фашисту пользоваться плодами вашего труда».
На заседании мы поделили зоны дислокации бригад. За нашей бригадой закреплялась территория, между реками Синяя и Исса вдоль границы с Латвией, на юге от железной дороги Себеж — Зилупе, далее на север — земли Красногородского района. Это, конечно, не означало, что мы должны были действовать только в вышеуказанном районе. Разграничение зон позволяло правильней решать продовольственную проблему, укреплять уверенность местных жителей в скором освобождении от оккупации. «Партизаны не уходят, партийное руководство в районе, значит, близок час изгнания врага», примерно так рассуждали теперь многие.
Шла речь на заседании и о приближавшемся международном празднике — 1 Мая. Наша бригада к этому времени почти удвоилась. Под ее знаменем сражалось 650 человек. Возвращаясь с заседания бюро подпольных райкомов, я предложил комиссар бригады:
— А что, Алексей Алексеевич, если мы пара своего войска организуем да на него жителей окрестных деревень пригласим?
— Дело говоришь, комбриг,— отозвался Козлов.
На том и порешили. Был составлен первомайский приказ. Текст его сохранился у меня. Перечитывая сегодня написанное нами тогда, конечно, понимаешь излишнюю многословность вводной части приказа. Но мы ведь не баловали людей в то время документами такого рода, а о многом хотелось рассказать. В приказе были такие пункты:
«2. Завтра, 1 мая, в 12 часов дня назначаю партизанский парад. Парад провести на поляне северо-западнее деревни Мыленки. На парад вывести все подразделения, свободные от выполнения боевых задач.
3. На парад пригласить гражданское население деревни Мыленки и окружающих деревень.
5. Моему заместителю по разведке товарищу Солдатову А. М. обеспечить глубокую разведку сил противника.
6. Секретарю партбюро бригады товарищу Романову П. Г., секретарю комитета комсомола бригады тов. Сауликовой М. Г., радистам бригады тов. Щекотихиной К. Н. и тов. Тетеревникову И. М. обеспечить прием информации из столицы нашей Родины Москвы о торжественном заседании, параде и первомайском приказе Верховного Главнокомандующего...
8. Комиссару отряда имени Жданова товарищу Волкову Н. А. произвести трехкратный салют из минометов в сторону озера Мыленское по установленному сигналу...»
И он состоялся, необыкновенный первомайский парад. Гол, неуютен был лес, но уже зацвели подснежники. С ними в руках на поляну пришли девушки. Собрались все жители деревни Мыленки и несколько десятков крестьян из близлежащих селений.
Улыбки. Радостные лица. Песни. Как в довоенное время. И это на оккупированной территории — в двадцати верстах от Себежа, где полным-полно солдат вермахта! Было от чего в конце дня бесноваться коменданту гарнизона полковнику Гофману и ищейкам тайной полевой полиции.
С оружием в руках, чеканя шаг, прошли перед командованием и собравшимся народом отряды народных мстителей. Шли герои дерзких засад, лихих налетов на фашистские гарнизоны, битвы на рельсах. Впереди были еще бои и бои, лишения, тяжелые походы, но все собравшиеся в тот Первомай на солнечной поляне верили: не за горами победа.
Рельсы и хлеб
Наступило третье военное лето. Теплынь, грозовые дожди принесло оно на берега Великой, Синей, Иссы, Сороти. На фронтах стояло относительное затишье, в сводках часто мелькали слова «без перемен». В районах Курска и Орла зрели события огромной важности. Мы тогда об этом даже не подозревали. Но каратели нас теперь сильно не донимали. Разведка донесла об отводе части полевых войск врага с нашего участка фронта. Нам это было на руку. Крестьяне засеяли с нашей помощью яровые и посадили картофеля значительно больше, чем весной 1942 года. А отряды бригады активизировали свои действия на коммуникациях, особенно на железнодорожных.
Охранялась железная дорога усиленно. После весьма удачной партизанской операции «Савкинский мост» противник на протяжении всей магистрали Резекне — Новосокольники вырубил лесные участки по обе стороны железнодорожного полотна. По нему постоянно курсировали патрули. У наиболее важных объектов (мосты, водокачки, станции) были дополнительно установлены спаренные зенитные крупнокалиберные пулеметы. Предназначались они главным образом для отражения воздушных атак, но достаточно было крика с наблюдательного пункта: «Партизанен!» — как огонь их направлялся в сторону леса. Нередко тревоги получались ложными, соответственно стрельба бесцельной. Последнее нас вполне устраивало.
К началу июля 1943 года на боевом счету бригады значилось 20 подорванных вражеских эшелонов и 1 бронепоезд. При крушении было уничтожено или сильно повреждено: паровозов — 21, вагонов с живой силой противника — 70, вагонов с боеприпасами — 21, платформ с техникой — 33, с хлебом — 9, с различным имуществом — 22, с материалами для восстановления железнодорожного полотна — 4, пустых (контрольных) — 8, цистерн с горючим—3. Направляясь на диверсии, бойцы шутили: «Права пословица: пришел июнь-разноцвет — отбоя от работы нет». Ратное дело русский человек всегда считал работой.
Все десять групп подрывников потрудились на славу. Особенно успешными были действия групп Александра Коваленко и Владимира Золотарева.
Вместе с представителем штаба партизанского движения Калининского фронта старшим лейтенантом Бабаевым комиссар, начальник штаба бригады л я подвели итоги боевой деятельности наших отрядов за полгода. Они были изложены в приказе по бригаде за номером 24 от 18 июля. Штаб в те дни находился в деревне Брод.
Пальма первенства была отдана отряду «25 лет Октября». Отмечались отличные действия подрывников и хорошая работа санитарной части бригады. В тяжелые для быта весенние дни, когда у наших соседей стал свирепствовать тиф, у нас было лишь три случая заболевания сыпняком. Сказались профилактические меры, предпринятые нашими медиками. К слову сказать, нашему главному медику Валентине Щелкуновой только исполнилось двадцать. До войны она была студенткой медицинского института.
...Бригада продолжала наращивать удары на коммуникациях. 1 июля группа под командованием Куклева подорвала на шоссе Опочка — Красногородск грузовую автомашину, а группа Золотарева заминировала участок этой же дороги на пути трех немецких танков. Один из них подорвался.
На другой день отличились (в который раз!) подрывники Коваленко. Под вечер им удалось спустить под откос воинский эшелон, следовавший из Латвии к фронту. Из Себежа к месту крушения направилась дрезина с двадцатью солдатами-ремонтниками во главе с офицером. Гитлеровцы были хорошо вооружены, но ехали беспечно, полагая, что после диверсии партизан и след простыл. Но Коваленко не увел группу от полотна железной дороги, а двинулся вдоль нее в сторону Себежа. Заминировал путь — дрезина взлетела на воздух.
Припоминаю разговор в штабе в те дни с командиром отряда «25 лет Октября» Ветковским. Спрашиваю его перед уходом на задание:
— Что бы ты хотел, Иван Николаевич, получить для отряда после возвращения в первую очередь?
Отвечает, не задумываясь:
— Соль, конечно.— Но тут же спохватывается: — Нет, лучше табаку вдоволь.— Уход я, уже в дверях, улыбаясь, твердо произнес: — О чем речь? Тол и еще раз тол.
Соль. Табак. Тол. Магические слова партизанских будней. До середины 1943 года не баловали наши штабы калининских партизан взрывчаткой. Мы с завистью тогда и позже (уже в послевоенные годы) узнавали, как щедр был для своих партизан на тол, динамит, мины осажденный Ленинград.
Добыча взрывчатки была в бригаде одной из первостепенных задач и наших «тыловиков», и самих подрывников. У меня сохранился записанный рассказ подрывницы Елены Еремеевой о том, как она с группой бойцов добывала взрывчатку перед операцией по взрыву моста на железной дороге Резекне — Новосокольники.
«Командир отряда Жуков,— вспоминает Еремеева,— назначил меня старшей группы. Предупредил о том, что взятый с собой прессованный тол (около пяти килограммов) расходовать нельзя. Это неприкосновенный запас.
С бойцами Василием Семеновым и Алексеем Белозерцевым мы удачно перешли железную дорогу Это было непросто. Район перехода был нашпигован солдатами охраны и полицейскими. За «железкой» у одной из деревень встретили комиссара нашего отряда Волкова. Он дал задание добыть килограммов 130—150 тола, обозначил район поиска. Со мной оставил подрывников Ивана Федоренко, Михаила Родионова и Иосифа Невердовского.
Начался обход деревень. Мы осторожно заходили в хаты и просили жителей припомнить, не видали ли они где-нибудь брошенных снарядов. На третий день пришла удача. Один старик посоветовал:
— Ищите вблизи Иссы. Где точно, указать не могу: то ли в самой реке, то ли в болоте рядом — не знаю. Слышал от красноармейцев, отступавших в сорок первом через нашу деревню с пушками, что они припрятали часть снарядов. Говорили, будем возвращаться — пригодятся. Да вот что-то не возвращаются, замешкались. Помоги вам бог найти для святого дела снаряды эти,— закончил дед свой рас сказ и истово перекрестился.
Мы поблагодарили старика и отправились к болотистому берегу реки. Не бог — шомпола помогла Долго мы щупали ими илистое дно, пока, наконец не раздался радостный крик Юзика — так мы звал: Невердовского:
— Есть! Тут они!
Снарядов обнаружили порядочно и все крупного калибра. Найти-то нашли, а как вытащить? Как ни старались и вдвоем и втроем — ничего не получалось. Крепко засосал снаряды ил. И тут выручила смекалка.
— А если ремнем? — предложил Родионов.
Я сняла свой. Он был командирский — широкий. Стоя выше пояса в грязи, опоясали один из снарядов. 1однатужились. Пошло дело. Вытащим снаряд. Очистим. Свинтим боеголовку и к чертям ее в болото, снаряд же откатываем на сухое место.
Устали сильно, но отдыхать было нельзя. Вдруг нагрянут гитлеровцы. Сразу же принялись за рытье лунок и выплавку тола. Опасное это занятие, но сноровка у нас у всех уже была. И все же я внимательно следила за тем, чтобы около снарядов, под которыми горел огонь, оставался только один человек.
Следующий день у нас ушел на подготовку зарядов. Сделали мы их три, каждый весом пуда в три.
А вечером я уже докладывала комиссару о выполнении задания. 7 июля он повел нас к объекту диверсИИ».
Рассказанный Еремеевой эпизод — типичный пример поведения наших подрывников при выполнении боевых заданий. Иначе, как мужеством, это не назовешь. Сослужило оно добрую службу и в тот раз.
Вел комиссар группу к деревне Шуты, расположенной недалеко от Себежа. В пути взяли проводника. Шли осторожно. Впереди Волков и два разведчика— Василий Тумашенко и Дмитрий Лебедев. За ними подрывники. Груз несли попеременно. К вечеру погода резко изменилась — разразилась роза. Пошел крупный дождь с барабанными каплями. Он и радовал партизан, и огорчал. Легче было избежать нежелательных встреч с патрулями, но идти тяжело нагруженными становилось все труднее и труднее.
— Впереди ров,— предупредили разведчики.
— Остановка,— распорядился Волков,— мост рядом.
Ров был глубокий. Пока подрывники преодолевали его, разведчики побывали на насыпи, убедились в отсутствии засады.
Охраны специальной нет, значит, жди патруль на дрезине,— заметил Волков и приказал: — Быстрее, товарищи!
И вот расставлены заряды. Все побежали к подрывнику, державшему шнур. Секунда, вторая и вместо огромного взрыва звук чуть тише винтовочного выстрела. На мгновение все опешили.
— Взрыватель! — крикнул Федоренко.
Подрывники теперь уже без всякой осторожности бросились на насыпь. Быстро заменили взорвавшийся капсюль-детонатор и закрепили два других выскочивших из зарядов. А со стороны Себежа мосту уже мчалась дрезина.
— Ребята, в укрытие! — подала команду Еремеева и, отсчитав три секунды, дернула за шнур...
Так в дневнике боевых действий бригады появилась запись: «8.7.43 г. Группа партизан отр. им. Жданова (ком. гр. комиссар т. Волков) в один час тридцать минут совершила диверсию по взрыву ж.- моста в р-не д. Шуты, кв. 42—88, длина которого 12 метров. В результате взрыва мост полностью разрушен».
Фашисты по свежим следам быстро организовал погоню с собаками, но подрывники отходили без минуты отдыха, да и дождь выручил. В отряд груш Волкова вернулась без потерь.
Комиссар отряда имени Жданова часто сам ходил во главе группы подрывников на диверсии. Отличался он не только смелостью, но и завидной осмотрительностью. В бригаде Волков был с ноября 19 года, до этого окончил двухмесячную спецшколу Москве. Бойцы любили своего комиссара. Приятно спустя три десятилетия читать о человеке такие строчки, которые написала мне о Николае Александровиче бывшая партизанка - подрывница Мария Николаевна Веселова:
«В моей памяти наш комиссар сохранился стройным, всегда подтянутым, с густой темно-русой копной волос на голове. Жизнерадостный, готовый принять настроение бойцов в трудную минуту добры словом, советом, а в бою личным примером. Мы любили ходить с ним на задания. Там, где находил коммунист Волков, всегда была удача...»
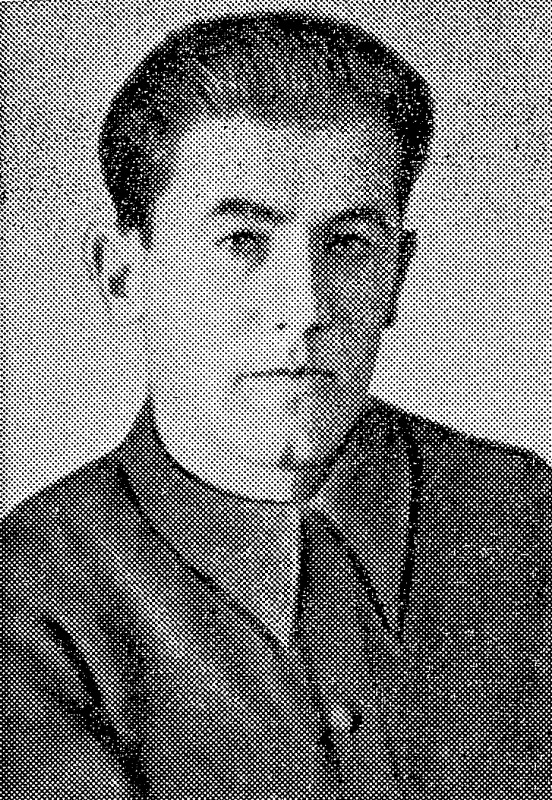 | 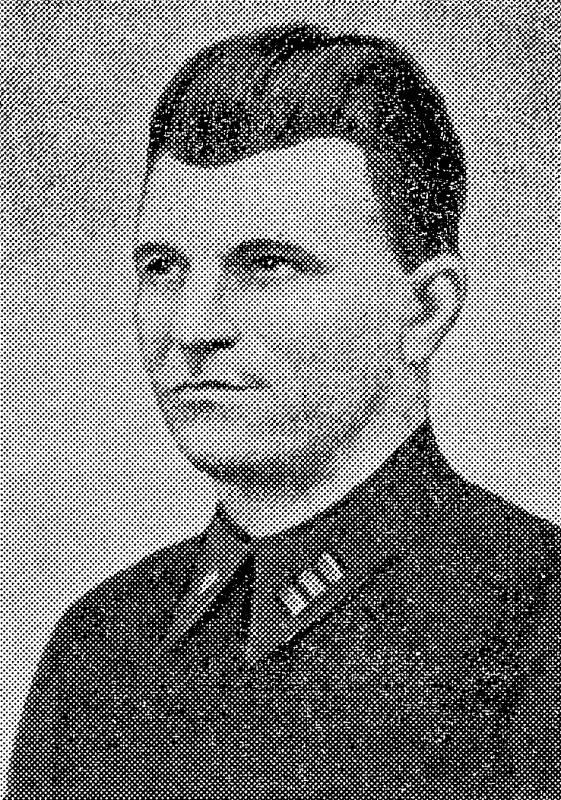 |
| Н. А. Волков - комиссар отряда | С. Г. Соколов - начальник штаба партизанского движения Калининской области |
Гремели взрывы на дорогах и в районах боевых действий соседей — бригад Марго, Бойдина, Лисовского. Доходили к нам слухи и об успешных диверсиях и боях с полевыми войсками вермахта ленинградских партизан под командованием Александра Германа. Его бригада рейдировала в Новоржевском и Пушкиногорском районах, а разведчики нередко Появлялись под Островом, у Опочки, на шоссе Ленинград— Киев.
В середине июля в Братский партизанский край прибыли работники штаба партизанского движения калининской области Коляда и Ковальчук. Вскоре зачастили самолеты с Большой земли, доставляя боеприпасы, особенно взрывчатку. Вести об этом пророчились в наш штаб.
— Неспроста такая щедрость,— заметил в разговоре комиссар бригады.
— Пожалуй, ты прав,— согласился я.— Хорошо разведать у Гаврилова. Его люди сейчас на белорусской земле вблизи аэродрома в Селявщине.
Но разведывать не пришлось. Прискакал на лошади связной от Гаврилова и передал приглашение прибыть к нему. В 3-ю Калининскую 22 июля прилетел начальник оперативной группы по руководству партизанским движением при Военном совете 3-й ударной армии подполковник С. Г. Соколов. Было назначено совещание.
На встречу с начальством мы с комиссаром отправились ранним утром следующего дня. Мокрый после теплого ночного дождя лес благоухал. Паxло грибами. На полях под лучами восходящего солнца золотились колосья ржи. Ехали молча.
— Пора,— неожиданно промолвил Козлов.
— Что пора? — не поняв комиссара, спросил я.
— Это не я, земля говорит: пора. Хлебушек убирать пора, пока вражеская солдатня не нагрянула подопечные нам деревни.
Земля не обманывала. Хлеба созрели. Страда на полях становилась в повестку дня, но нас ожидала другая страда. О ней мы узнали на совещании командиров и комиссаров бригад в штабе у Гаврилова. Степан Григорьевич Соколов, выслушав краткий рапорт прибывших комбригов, начал совещание словами:
— Товарищи, я привез вам приказ Центрального штаба партизанского движения о крупнейшей операции в помощь Красной Армии. Название операции «Рельсовая война». Ее задача: в течение август 1943 года нанести удары огромной силы по железнодорожным коммуникациям врага, произвести массовое разрушение полотна, создать напряженное положение в рельсовом хозяйстве противника и тем самым сорвать массовые перевозки боевой техники и живой силы фашистских армий на протяжении соте верст.
Я слушал Соколова в радостном изумлении. На стальных магистралях мы умели хозяйничать и взрывали мосты, водокачки, стрелки, пускали откос поезда. Оказывается, сегодня этого мало. Бойцы армии, воевавшие с немецко-фашистскими захватчиками на фронте, партизаны, дравшиеся с гитлеровцами с первого дня войны в тылу врага, могли назвать различные виды боя: встречный, в окружении, уличный, бой-преследование. А вот «рельсовый бой», «рельсовая война» — такого определения не было ни в одном уставе.
Соколов продолжал разъяснять приказ:
В зоне действий калининских бригад, как хорошо вам известно, две железнодорожные магистрали. Главная берет свое начало от Новосокольников и идет через Пустошку, Идрицу, Себеж в Латвию.
Протяженность ее 135 километров, рельсов имеет около 40 тысяч. Вторая магистраль Невель — Полоцк. Здесь наш участок ограничен станциями Невель — Клястицы. Протяженность участка 40 километров, рельсов более 6 тысяч. Ваша задача — взорвать как можно больше рельсов. Вместе с нами начнут операцию ленинградские и белорусские партизаны. Штаб забросил вам и забросит в ходе операции много тола, капсюлей, бикфордова шнура и разных боеприпасов. Первый удар будем наносить Одновременно всеми бригадами в срок, о котором узнаете позже. Главное сейчас — точно отработать залай проведения операции каждой бригадой, создать новые подрывные группы, провести со всеми подрывниками специальные занятия.
Говорил Соколов спокойно, твердо. Чувствовалось, что он всесторонне продумал ход операции. Это подтвердили дни подготовки к ней. В начальнике опергруппы хорошо сочетались энергия, осторожность, мужество.
Центральный штаб действительно по-настоящему обеспечил операцию. Позже нам стало известно, что калининским бригадам было доставлено самолетами только одного тола около 15 тысяч килограммов.
«Ассортимент товаров», получаемых бригадами, был широк: бикфордов шнур и медикаменты, капсюли и саперные спички, пеньковый фитиль и гранаты.
Подготовка началась сразу же после совещания. Мы в своем штабе составили подробный план действий отрядов на выделенных для бригады участках. Докладывая его Соколову, немножко похвастался:
— А подрывных групп у нас уже давно десять. — Мало,— обрезал Степан Григорьевич.— На сегодня подрывник основная фигура отряда и бригады.
Командиры и начальники штабов отрядов Ветковский, Жуков, Рожко, Поздняков, Волков, Руденко, Иванов, Усвайский организовали занятия по отработке приемов минирования, быстрого подхода к цели, расстановки охраны. Мой заместитель по разведке Солдатов, командиры отрядной и бригадной разведки— Алексей Андреев, Александр Черкасов, Павел Петров, Георгий Лапин, Василий Орехов, Александр Куклев — послали разведчиков по предполагаемому маршруту движения отрядов к району цели. Более половины личного состава бригады готовилось стать непосредственными исполнителями то есть подрывниками. Остальные бойцы входили в группы охранения, засады, разведки. Были предусмотрены и отвлекающие удары.
В общем, готовились как надо, будто мы и не находились во вражеском тылу. Не помню точно, в кто-то из наших соседей даже провел предварительное учение на недействующей железной дороге Опочка — Идрица — Полоцк. А в одном из наших отрядов был построен макет железной дороги длиной 150 метров для отработки задачи повзводно.
В последние дни июля установилась жаркая погода. На небе ни облачка. Ночи звездные, но не светлые. Операция назначена в ночь с 3 на 4 августа. Отряды на заданные рубежи вышли заранее. Все было проделано в строгом соответствии с планом. И тайно. Я со штабом расположился вблизи разъезда Гангрея. Фашисты ничего не предполагали. Тишину ночи лишь изредка вспарывали пулеметные очереди.
— Стреляют в свет, как в копейку,— ворчал мой ординарец Георгий Самоучкин,— зря патроны переводят. — Это они, Жорка, тебя пугают,— пошутил Солдатов.
— Мы не из пужливых,— солидно пробасил Самоучкин.
Где-то невдалеке на хуторе тягуче завыла собака.
— Молодец, Жучка. За упокой фашистских душ отходную затянула,— не преминул заметить Георгий.
— И все-то наш Самоучкин знает. Даже как хуторного пса зовут.
— Так он ведь у нас таковский.
Бойцам хотелось поговорить. Снять хотя бы пустячным разговором напряжение. Я достал из кармана часы. Козлов тоже. Стрелки показывали два часа.
В небо взвилась ракета. Смотрю в сторону железной дороги и мысленно представляю ее этак километров на сорок. В подрывных группах подай команда: «Зажигай!» Задымились сотни бикфордовых шнуров... Небывалая операция!
И тут громыхнуло. Через несколько минут отельные взрывы слились в сплошной гул. Прокатится одна его волна. Чуть стихнет — становится слышна пулеметная трель. И сразу же накатывается еще более мощная волна. Все окрест в огне и грохоте. Ощущение такое — будто сама земля поднялась на дыбы.
Команду на отход подали на исходе ночи. Отходили без выстрелов. Гитлеровцы нас не преследовали — настолько сильным был у них шок. Некоторые отряды других бригад вели перестрелку с блокированными гарнизонами охранных войск. Лишь на отдельных участках завязались бои.
Вот что утром 4 августа 1943 года о той памятной очи записала писарь бригады (до войны студентка педагогического института) Антонина Низкая в «Дневник боевых действий»:
«Отряд «Смерть оккупантам» на участке железой дороги Зилупе — Себеж от границы Латвии, кв. 50—72, 48—74, взорвал 129 рельсов. На этом же участке были подорваны 3 моста и разрушена телефонно-телеграфная связь на 1500 метров. Руководил операцией командир отряда лейтенант Рожко»;
«Отряд им. Жданова на участке железной дороги Зилупе — Себеж, в кв. 48—74, 46—74, взорвал 140 рельсов, подорвал 2 железнодорожных моста, разрушил телефонно-телеграфную связь на протяжении 900 метров. Руководил операцией командир отряда Жуков»;
«Отряд «25 лет Октября» на участке железной дороги Зилупе — Себеж, кв. 44—80, взорвал более 50 рельсов, разрушил связь на 300 метров. Руководил операцией комиссар отряда И. В. Федоров»;
«Подрывная группа отряда им. Кирова (командир гр. Золотарев) в кв. 50—79, 48—74 взорвала 70 рельсов».
Не прошло и суток, как к этим четырем записям присоединилось еще две. Группа Коваленко взорвала 70 рельсов, а подрывники под командой Николая Павлюченко подорвали 25 рельсов и уничтожили вязь на протяжении 200 метров.
Отличились в первую ночь и наши соседи. Бригада Бойдина подорвала 600 рельсов, а Лисовского — более тысячи. Всего калининские партизаны, нанося первый удар по стальным магистралям врага, повредили 5600 рельсов. В течение 4—5—6 августа 1943 года железнодорожная линия Новосокольники - Резекне не работала.
Переполох в стане врага был большой. Позже наши разведчики и подпольщики сообщили в штаб бригады, что даже в Себеже, где стоял многочисленный гарнизон, комендант струхнул и приказал готовиться к... эвакуации. Многие мелкие гарнизоны, чиновники и ставленники гитлеровцев из учреждений оккупационных властей сразу же покинули села поспешили под охрану войск в Идрицу, Пустошку, Новосокольники.
Командование охранных войск тыла групп армий «Центр» и «Север» издало грозные приказы. Полетели со своих постов несколько комендантов и чиновников железнодорожной администрации. На охране дороги подразделения РОА были заменены чисто немецкими частями. Для ремонта путей направлено 3 восстановительных поезда, 475 рабочих и 4 железнодорожных батальона. Насильно выгнано на работы все трудоспособное население деревец прилегавших к железной дороге.
Ну а мы не терялись — нанесли удары на новь участках и там, где оккупантам удалось восстанови путь. Так, в ночь с 6 на 7 августа несколько наших подрывных групп действовали на участках дороги Себеж — Идрица. Командовали группами начальник штаба отряда Анатолий Усвайский, старший лейтенант Анатолий Сахариленко, комиссар отряда Василий Антипов. Было подорвано более 400 рельсов, два моста, в нескольких местах уничтожена телефонно-телеграфная связь, обстрелян обоз противника, подвозивший рельсы из Латвии для восстановления железной дороги.
— Достукались солдаты фюрера — рельсы на телегах подвозят,— с насмешкой рассказывал Сахариленко.— Мы, как увидели такую процессию, так и дали ей партизанского огонька.
Я понимал старшего лейтенанта. Полтора года томился в псковских лагерях военнопленных, где фашисты замучили десятки тысяч красноармейцев и командиров. Бежал от смерти. У нас был второй месяц. Всегда рвался в бой.
И все же взорванный мост лучше, чем плюгавый обоз,— подначил старшего лейтенанта Антипов.
— Правильно, товарищ командир,— согласился Сахариленко и лукаво добавил: — У нас-то ведь обоз вроде бесплатного приложения к взорванному мосту. Главное — воюем!
Недолго пришлось воевать Анатолию. Спустя месяц он был убит во время нашего налета на фашистский гарнизон.
«Главное — воюем». Это было сказано точно. Летом 1943 года мы воевали в полную силу. Операция «Рельсовая война» продолжалась и в последующие августовские дни. Но выход целыми отрядами стал почти невозможным. Командование противника в помощь охранным войскам подвело к железной дороге Новосокольники — Резекне бригаду СС, батальон полицейского полка, бронепоезд. В район станция Забелье — разъезд Лемно специально приезжали два генерала из штаба группы фашистских войск для инспектирования нового порядка охраны. Пришлось нам менять тактику. Продолжали наносить массированные удары, но мелкими группами.
Операция «Рельсовая война» была хорошей школой для молодых бойцов. Ее добрым словом вспоминают те из них, кому после окончания партизанской борьбы довелось воевать с врагом, находясь в рядах Советской Армии. В отряде «Смерть оккупантам» служил у нас семнадцатилетний паренек Володя Кирьянов. Его довоенная биография укладывалась в несколько строк: родился в семье крестьянина, учился в школе, начал работать. В бригаде Кирьянов стал смелым разведчиком, умелым подрывником и вскоре возглавил подрывную группу. За дерзкий захват «языка» — железнодорожного мастера Пауля Пафнера (гитлеровец был взят во время пирушки) Володю наградили орденом Красной Звезды. За пуск под откос на латвийской земле эшелона с горючим он получил орден Отечественной войны I степени. В армии к этим наградам прибавились орден красного Знамени за участие в разгроме группой разведчиков фашистского штаба и медаль «За отвагу» за бои при освобождении Кракова.

В. И. Кирьянов - командир подрывной группы бригады
В марте 1945 года при форсировании Одера Кирьянов был тяжело ранен в ноги и грудь. Забегая вперед, скажу: наш отважный подрывник и разведчик жив. Несмотря на инвалидность, работает на одной из предприятий города Калинина. Недавно Владимир Иванович прислал мне письмо, в котором есть такие строки: «Никогда не забуду, как мы громили «железку» в августе сорок третьего. То, чему я научился тогда в смысле разведки, новых приемов и способов подрывного дела крепко пригодилось в боях за освобождение Кракова, Будапешта, Бухареста».
А для многих подростков, принятых в нашу партизанскую семью, участие в операции «Рельсовая война» было боевым крещением. Пятнадцатилетний Дима Константинов (ныне Дмитрий Максимович - директор одного из передовых совхозов России) еще не получил карабина, а шел с подрывниками: нес тол. Позже юный партизан не раз отличался в разведке.
Трудно даже перечислить всех партизан — героев битвы на рельсах... Николай Павлюченко, Алексей Алексеев, Владимир Золотарев, Иван Жагора, Виктор Артемьев, Евдокия Ланина, Николай Ладисов, Павел Константинов, Елена Еремеева. Много их было, бесстрашных, молодых.
Неписаный закон партизанской жизни — подрывник не может вернуться в отряд, не заминировав дороги. У наших соседей был случай — не успели молодые, но опытные подрывники Петр Боровков и Антон Ермаков поставить мины на пути вражеского эшелона. Не успели не по своей вине. А эшелон приближался. И тогда ребята с гранатами и взрывчаткой бросились под его колеса.
Две жизни за одно крушение. Мало это или много? Находятся «умники» — рассуждают: «Стоит ли жертвовать жизнью сгоряча? Ведь, оставшись в живых, можно нанести немалый урон врагу, и не единожды». А сгоряча ли поступили эти два русских парня? Решение мгновенное — это верно. Но за ним мужество, а оно не рождается в один миг. Да и не Изобретены и не будут никогда созданы такие приборы, чтобы узнать меру великого человеческого деяния — подвига.

Группа командиров 3-й и 10-й Калининских партизанских бригад
23 августа 1943 года прозвучал в Москве первый победный салют. Величайшая битва второй мировой войны — Курская — была выиграна советским народом. Первыми эту весть услышали и сообщили мне и комиссару бригады наши радисты Клавдия Щекотихина и Илья Тетеревников. Весь день царило в штабе радостное настроение.
— Нет, что ни говорите, а и партизанская доля в этой победе есть, — взволнованно повторял Солдатов.
— Мы тоже в это время действовали,— вторил ему наш парторг Романов.
— Надо, чтобы не сегодня-завтра все бойцы бригады узнали об этой замечательной победе, — сказал комиссар, обращаясь к Сауликовой и Романову.
Позже нам стало известно: операция «Рельсовая война» была своеобразной прелюдией сокрушительного удара советских войск на Курской дуге.
Успешное проведение операции «Рельсовая война» отразилось на борьбе за урожай, развернувшейся между оккупантами, мелкими полицейскими гарнизонами, с одной стороны, и жителями деревень, партизанскими группами, с другой. Фашистское командование, поставив свои гарнизоны в селенья, расположенные поближе к железной дороге, оголило другие места. Крестьяне, конечно, не прозевали такой момент. В поле вышли и стар и млад — быстро убирали и прятали хлеб. Наши бойцы тоже взяли в руки косы и серпы.
Разведчикам 5-й бригады попал в руки документ, в котором военный комендант Себежа приказывал хозкомендатуре собрать для нужд вермахта и посылки в Германию из урожая 1943 года 2130 тонн зерна, 1140 тонн картофеля, 1600 тонн сена, 950 тонн соломы. А собрали оккупанты всего лишь одну десятую часть требуемого. Примерно такая же картина была в Красногородском и Идрицком районах. Несколько больше зерна и картофеля гитлеровцы награбили в Опочецком районе, где всегда находились подразделения полевых и охранных войск 16-й немецкой армии.
Под нашей защитой проходила уборка хлебов деревнях Церьковка, Вишнево, Брод, Лубьево, Рожново, Глинище, Костенец, Борисенки и некоторых других. Поскольку летом и в начале осени 10-я бригада действовала в трех районах — Себежском, Красногородском и Опочецком, мы с соседями предварительно оговорили, где кто будет помогать жителям при уборке урожая.
В те дни мне удалось поближе познакомиться секретарем подпольного Опочецкого райкома партии Николаем Васильевичем Васильевым. Из штаба 3-й бригады мы с ним верхами на конях отправились вниз по течению Иссы. Стояло редкое по красоте утро. Неяркое солнце. Серебряные росы. Упоительно свежий воздух ранней осени. У речного изгиба желтел лоскуток льняного поля.
— Смотри-ка, Михайлыч, даже лен посеяли,— в грустным удивлением произнес Васильев.— Ну, да тебе этого не понять — в городе работал. А мы, деревенщина, твердо верили в дедовский завет: лен вымотает, лен и озолотит.
— Про это и мы, городские, слыхали,— отозвался я. - ___ Великие Луки не ахти какая столица. От нашего депо было рукой подать до колхозных угодий.
Хорошие льны выращивали многие колхозы тверской земли, Ленинградской области. Сергей Миронович Киров Островской район в свое время называл «льноводным путиловцем».— Васильев посмотрел на меня с гордостью (знай, мол, наших) и неожиданно бодро, громко сказал: — А здорово держится Ленинград! Да что держится — не то слово. Наступает уже. И еще как будет наступать!
Сын питерского рабочего, Николай Васильевич еще в молодые годы связал свою жизнь с колхозной деревней. Был председателем сельского Совета, работал в райисполкоме, секретарем Сонковского райкома ВКП(б) Калининской области. Партизаны любили Васильева за исключительное жизнелюбие, неброское мужество, за умение доходчиво рассказать о том, что творится на белом свете, за постоянную заботу о бойцах. Мало кто знал из них, что этот невысокий, сутуловатый, всегда энергичный и оптимистически настроенный человек тяжело болен. Покинуть бригаду Николай Васильевич отказался...
За изгибом реки десятка два людей убирали картофель. Васильев поинтересовался:
— А где охрана? Что-то не вижу твоих партизан, Михайлыч?
Я объяснил:
— В этой деревне действует группа самообороны. Несколько человек из работающих в поле вооружены. Чтобы снятый хлеб оккупанты неожиданно не отобрали, организовано круглосуточное дежурство. Поддерживается связь с одним из наших отрядов.
— А где ремонтируют крестьяне инвентарь? — продолжал расспрашивать Васильев.
— У нас работает кузница.
— И телеги правят?
— Да, и телеги.
— Молодцы!
Мы подъехали к полю. Крестьяне сгрудились вокруг нас. Васильев достал трехдневной давности «Правду», предложил:
— Маленький перекур, товарищи. Вот что сообщает Москва о разгроме фашистов под Курском...
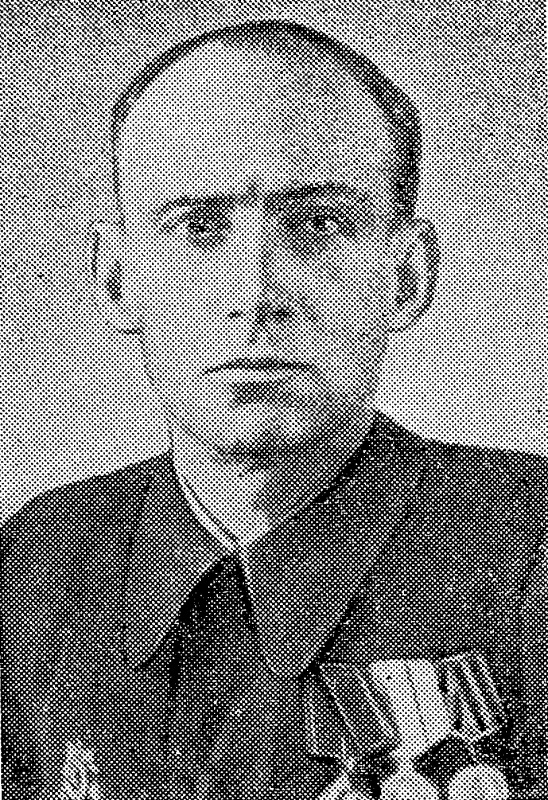 |  |
| Н. В. Васильев - секретарь Опочецкого подпольного райкома партии | М. Н. Зубков - политрук хозвзвода |
И у оккупантов, и у партизан была в битве в урожай своя тактика. Гитлеровцы выгоняли в пол жителей и заставляли их работать под охраной солдат. Направляли на полевые работы полицаев и свои хозяйственные подразделения. Устраивали ночные налеты на деревни с целью отнять уже убранное зерно, бобовые, картофель. В Себежском районе фашисты на участке между деревнями Ляхово и Дудино создали «кочующий гарнизон». Он состоял и полтысячи «заготовителей». На вооружении у них были батальонные минометы, пушки и даже танк.
Мы старались по возможности упредить врага, перехватывали «заготовителей» по дороге, нападал из засад. И тут свое слово сказали наши разведчики.
Да и группы самообороны тоже. Оповещение и связь действовали безотказно.
Иногда на подступах к полю созревшей ржи разыгрывались целые баталии. Так, весь день 6 августа 1943 года отряд «25 лет Октября» вел бой против трехсот гитлеровцев, направленных на уборку урожая из гарнизонов Мозули и Балтино. В середине дня фашисты открыли огонь по нашим бойцам из двух орудий и батальонного миномета. В помощь Ветковскому я направил несколько боевых групп из других отрядов. Удалось удержать рубеж до вечера. А крестьяне тем временем спешно убирали хлеб.
Иногда приходилось и уничтожать зерно. Горько, обидно, но в руках врага хлеб тоже оружие. Как- то в конце лета Себежская хозяйственная комендатура приготовила на станции Кузнецовка несколько десятков тонн ржи и пшеницы для отправки в Германию. Незадолго до подачи на станцию железнодорожного эшелона наши разведчики подожгли ссыпной пункт. Солдаты охраны бросились тушить пожар, но меткие выстрелы партизан не дали им приблизиться к горевшему зданию. Командовал в этой операции бойцами отряда «Смерть оккупантам» старший лейтенант Сахариленко.
Опираясь на группы самообороны (а в них в зоне наших боевых действий насчитывалось более пятисот человек), отряды бригады провели заготовки зерна и овощей для своих нужд. На наши базы поступило 120 тонн ржи, около 60 тонн ячменя и овса, 250 тонн картофеля, горох, лук. Для обеспечения партизан продовольствием многое сделали член подпольного райкома партии Павлова, заместитель комбрига по хозяйственной части Миронов, партизаны - хозяйственники С. А. Алексеев, Я. Ф. Курицын, С. Е. Шилин, П. А. Макеенко, М. А. Устинов, М. Н. Зубков. Но особенно большая заслуга и в охране урожая, и в заготовке хлеба, картофеля, овощей для бригады принадлежала довоенному председателю Луташевского сельского Совета Федору Григорьевичу Григорьеву. В 1943 году он возглавил партизанскую комендатуру.
Инициатива создания комендатур принадлежала Себежскому подпольному райкому партии, возглавляемому Андреем Семеновичем Кулешом. Всего комендатур в районе было семь. Комендантами бюро райкома назначило самых уважаемых, смелых людей, понимавших толк в крестьянской жизни. В их распоряжение были выделены по пять-шесть хорошо вооруженных партизан.
В ведении комендатур находились вопросы землепользования, распределения сенокосных угодий среди крестьян, административные дела. Без разрешения коменданта ни один проходивший через район партизанский отряд не имел права заготавливать провиант, брать скот у жителей деревень. А в дни, когда в зону комендантского участка вторгались каратели, комендант и его помощники организовывали уход населения в лес.
Григорьев пользовался большим авторитетом командиров и комиссаров отрядов нашей бригады. В тесном контакте с ним находились и наши главные разведчики. Был Федор Григорьевич человеком многих достоинств: немногословен, энергичен, умел найти исцеляющее слово для матерей и жен погибших партизан.
Как-то при встрече в дни, когда по району только что прошла карательная экспедиция, слушая рассказ Григорьева о самоотверженном поведении женщин сожженной деревни, я спросил:
— Сам-то как держишься?
— Молитвами, товарищ комбриг, молитвами,— ответил Григорьев.
— Постой, постой, ты же, кажется, неверующим был.
— А у меня молитва особенная, — Федор Григорьевич протянул вдвое сложенный пожелтевший листок: — На, прочти. Добрая молитва. Батька мой раньше «Отче наш» только на ночь читал. А я в эту молитву заглядываю и спать ложась, и когда просыпаюсь на зорьке.
В руках у меня очутилась листовка — обращение к гражданам Себежского района с призывом активнее помогать партизанам уничтожать оккупантов и их приспешников. «Молитва» была конкретной, подсказывала жителям деревень: «не являйтесь по повесткам в город, прячьте свое имущество, угоняйте скот в леса, уходите от мобилизации... ни фунта хлеба, мяса и другие продуктов немецким властям».
Подпольные райкомы партии, действовавшие в пределах Братского партизанского края и у его границ, руководили восстанавливаемыми органами Советской власти. Заботливо, постоянно направлял деятельность комендантских участков Себежский райком. Осенью 1943 года он принял специальное постановление о работе комендантов.
Борьба за хлеб, война на рельсах показали возросшую боеспособность калининских партизан, действовавших в Себежском, Идрицком, Красногородском и Опочецком районах. Все больше и больше мы становились подлинными хозяевами озерного края.
Далось это не легкой ценой. Были потери. И не малые. Погибли И. Е. Шилин, Е. И. Морозов, П. Ф. Самоучка, Д. Е. Антонов, И. Е. Дмитриенко, Г. П. Поляков, М. И. Кириллов. Почти полностью 5ыла уничтожена гитлеровцами группа самообороны деревни Ноглово, жертвой трагического случая стал Александр Куклев, разведчик, не знавший слов: «не выполню», «не смогу».
Потеряли мы и нашего бесстрашного моряка Сергея Шуваева. Отважнейший из храбрейших, он был в стольких смертельных стычках, что казался многим «заговоренным от пуль». Помню, я и сам не поверил в его гибель.
— Не может быть. Он найдется. Очевидно, ранен. Надо искать, Александр Михайлович,— говорил я Солдатову, принесшему эту горькую весть.
— Нет, товарищ комбриг. Шуваев погиб. Ребята видели, как он упал замертво,— старший лейтенант отвернулся, пытаясь скрыть слезы, и глухо прошептал: — Убили проклятые гады моего Серегу.
Шуваев погиб в неравном бою. Погиб геройски, ведя на прорыв группу бригадных разведчиков.
В районе деревни Апросово эта группа приняла бой с фашистами, превосходящими ее в силах более чем в четыре раза. Нанеся чувствительный удар по врагу, разведчики переправились через Иссу и заняли оборону на опушке небольшого леса возле деревни Брод. Вспоминая этот последний бой Шуваева, 5ывший разведчик нашей бригады Леонид Захарович Егоров писал мне:
«Мы думали, что гитлеровцы будут переправляться через Иссу вброд по нашим следам. Устроили засаду. Прошло порядочно времени — никого. В деревне ни звука. И деревья будто замерли все - не шелохнется ни одна ветка. Тревожная тишина. Кто-то из ребят не выдержал, руганулся:
— К чертовой бабушке эту тишь.
— Не дрейфь, браток,— отозвался Шуваев,— затишье перед штормом.
И он разразился — свинцовый шквал. Гитлеровцы перебрались через Иссу по сваям взорванного моста и с трех сторон обрушили на нас сильный огонь из пулеметов и автоматов, прижимали к реке.
Шуваев по цепи передал команду прорываться на северо-восток, в сторону урочища Лоховня. Открыв в этом направлении огонь, мы бросились на прорыв. Видел, как Шуваев сразил несколько солдат. Слышал его громкое: «Полундра!» А потом он упал...»
Вспоминает медицинская сестра Валентина Николаевна Михайлова:
«На теле нашего командира (его нашли в кусту у самой реки) были кинжальные раны. Фашист надругались над мертвым героем.
Удалось найти и тело разведчика Мефодия Парфенова, горло у него было перерезано, в руке зажата бритва. Судя по всему, он был тяжело ранен и предпочел смерть плену».
Приближалась осенняя распутица, зима с люты ми морозами и метелями. Поэтому никто из членов нашего подпольного райкома не удивился, когда Козлов предложил собраться, пригласив на заседение бюро партийный актив, чтобы обсудить ход по готовки к осенне-зимнему периоду. Сообщение запасах продовольствия сделала член райкома А. В. Павлова. О заготовке теплой одежды и обуви доложили старшина хозяйственной части бригады Яков Федорович Курицын и политрук Максим Николаевич Зубков.
Неплохо потрудились наши хозяйственники, помощью населения было заготовлено 250 лошадиных и коровьих и 1700 овечьих шкур, большое количество шерсти. Зерно, картофель, овощи надеж укрыты.
Павлова, Зубков и другие товарищи называли на совещании десятки фамилии крестьян, которые делились с народными мстителями всем, чем только могли. Память не сохранила многих имен, но благодаря писарю штаба бригады Антонине Низкой (девушке весьма старательной) можно назвать некоторых из наших верных помощников. Илья Дмитриевич Дмитриев из деревни Мойзелово передал в нашу хозчасть 8 пудов хлеба и 24 килограмма (бесценный подарок по тем временам) соли. Петр Андреевич Орлов из деревни Чернецово привез нам 10 пудов ржи. Никита Николаевич Лисицын из деревни Агафоново сдал на партизанский склад 15 килограммов сала и 35 килограммов табаку. Шестидесятилетний Василий Евсеевич Евсеев, житель Мозулей, где все время стоял крупный немецкий гарнизон, сумел доставить партизанам 20 килограммов соли и несколько десятков пачек махорки.
Встречаясь ежегодно во время традиционного сбора на кургане Дружбы, что высится в 25 километрах от Себежа в лесу на границе трех братских республик — Белоруссии, Латвии и России, бывшие партизаны 10-й Калининской вспоминают не только бои и походы. Дань сердечной признательности мы отдаем замечательным советским патриотам — жителям деревень за их бескорыстную помощь нам в годы войны. Низкий поклон им за хлеб, за тепло их жилищ, за душевную поддержку.
Огнем сердец
Стратегическая победа наших войск на Курской дуге, успешно проведенная в масштабе всего советско-германского фронта, операция «Рельсовая война» вызвали общий подъем партизанской борьбы. Мы это чувствовали по активизации боевых действий соседей. Отряды ленинградских партизан успешно громили вражеские гарнизоны на Сороти, выходили на шоссе к Острову и Опочке. С бригадой ленинградцев под командованием Анатолия Дмитриевича Кондратьева мы дружно взаимодействовали третьей военной осенью.
Белоруссия к этому времени вся была в огне партизанской борьбы — на ее территории действовало свыше 120 тысяч партизан. Нас радовали крупные успехи бригады имени М. В. Фрунзе (комбриг Иван Кузьмич Захаров), бригады имени К. К. Рокоссовского под командованием Александра Васильевич Романова. Вместе с отрядами этих бригад калининские партизаны основали Братский партизанский край, участвовали в отражении карательных экспедиций «Заяц-беляк» и «Зимнее волшебство», в Савкинской операции.
Ширился район действий партизан-латышей. Их влияние простиралось теперь не только на северо-восточную и северную часть Латвии. Наш старый знакомый Вилис Самсон, выполняя указание оперативной группы ЦК Коммунистической партии республики (группа базировалась тогда в Освейском районе БССР), направил несколько взводов в леса Абренского уезда. Они положили начало новым партизанским группам. Латыши называли их подотрядами. Беспокойной теперь стала жизнь оккупантов и в центральной части Латвии.
О превращении к осени 1943 года партизанское движения в Латвии в значительную силу свидетельствуют отчеты генералов вермахта об оперативных перевозках для группы армий «Север». Хорошо раз витая сеть железных и шоссейных дорог на латышской земле была для оккупантов в первый период войны «зеленой улицей». С лета положение резко изменилось. В генеральских отчетах сквозит нара стающая тревога о безопасности перевозок, приводятся данные о не попавших на фронт сотнях орудий, танков, о десятках железнодорожных эшелонов, сброшенных с рельсов партизанскими минами.
Начало осени наша бригада ознаменовала налетом на крупный гарнизон врага в населенном пункт Балтино. Он все лето, как в свое время Сутокский гарнизон, был для нас «бельмом на глазу» — контролировал дороги на Мозули и Опочку. Обороняв его противнику не представляло большого труда. Селение расположено на высоте. Рядом заболоченное озеро, река Веть. И все же гитлеровцы возвели укрепления. Даже около высокой каменной церковной ограды была отрыта и тщательно замаскирована глубокая траншея.
3 сентября в штабе мы с Романовым, который заменил заболевшего Козлова на посту комиссара бригады, слушали утренний доклад Авдохина о действиях групп, вернувшихся с боевого задания.
- Сожжена пекарня, обслуживающая батальон немцев,— неторопливо говорил начальник штаба.— Разгромлен молочный пункт в квадрате 08—82. Уничтожено все оборудование. Командовал группой комиссар отряда имени Кирова Федоров Василий Андреевич.
Авдохин тоже вступил в должность начальника штаба несколько дней назад. Заметно смущался.
Я пошутил:
— Дела молодецкие, а ты бубнишь. Лихо докладывать надо, Володя.
— Лихо доложу,— улыбнулся Авдохин,— когда...
— Что когда? — спросил Романов.
— Когда бальтинских гитлеров потревожим. Мы с Рожко и Ветковским вчера головы ломали над этим. Есть примерный план.
— Три головы не дурно. Пять — совсем хорошо. Давай ваш план на стол,— резюмировал я.
Удар по гарнизону мы нанесли в ночь с 11 на 112 сентября. Операцию провели комбинированную. Отряды Рожко и Ветковского штурмовали непосредственно Балтино. А отряды Позднякова и Жукова блокировали крупные фашистские гарнизоны в Мозулях и Креневе — откуда могла поспешить помощь.
Расчет был верным. В разгар боя в Балтино на дороге из Кренева появились два грузовика, полных солдат. На горке машины остановились. Гитлеровцы начали спрыгивать на землю. И в этот момент командир отряда Жуков подал команду:
— Огонь!
Сразу же заработал пулемет Александра Балышева и Василия Федоренко. Через минуту их поддержали Виктор Малашенок и Иван Павлюченко. Стреляли ребята точно. Гитлеровцы ретировались, бросив машины. В районе Мозулей слышались выстрелы, но подкрепление оттуда послано не было.
Фашисты в Балтино оказали более сильное сопротивление, чем мы ожидали. И тому имелась причина. Утром в гарнизон приехало небольшое подразделение солдат вермахта. Скорее всего это был случай, мы его не предусмотрели. Да и вряд ли следовало отменять налет.
Два часа с лишним гремели выстрелы на улицах Балтино. Свинцово-лиловая темень ночи озаряло взрывами гранат. А вести гранатный бой наши бойцы умели. Гитлеровцы были выбиты из всех зданий, где они располагались. И только из-за церковной ограды не прекращался автоматный огонь. Дважды бросались к ней партизаны. И дважды вынуждены были залечь. И тогда встал во весь рост команда взвода разведки коммунист Василий Михайлович Орехов:
— Вперед, братцы! За Родину! Ура!
Вскочил на ограду. За ним другие. Поднял свои бойцов и политрук взвода Иван Яковлевич Порядин...
Разгромили мы этот гарнизон. На улицах насчитали более сорока вражеских трупов. Уничтожил склад с боеприпасами. Захватили трофеи: оружие, 80 коров, 17 лошадей, много военного имущества. Главный же результат налета стал ощутим позже - фашисты больше в Бальтино гарнизонов не ставили.
Наши потери: 11 человек убитыми, 15 ранены: Дорого далась нам каменная ограда вокруг церкви. Из строя вышли комиссар отряда И. В. Федора начальник штаба отряда А. А. Волков, командир взводов П. Г. Осипов, К. К. Сентерев. Двадцатилетнему партизану Николаю Стрига пришлось срочно ампутировать ногу.
Щемящей болью в сердце отозвались безвозвратные потери. Погиб смертью храбрых молодой разведчик Иван Семенов. Оказывая помощь боевым товарищам, была сражена автоматной очередью медицинская сестра комсомолка Тамара Николаева. Настигла вражеская пуля и героя из легендарной «Восьмерки» Василия Михайловича Орехова.
«Радостное изумление перед духовной стойкостью и духовной красотою испытываешь, когда знакомишься с их делами, их биографией». Эти слова Алексея Максимовича Горького о замечательна большевике Скворцове-Степанове и его товарищах из ленинской когорты могут быть отнесены и к жизни рядового члена нашей партии Василия Орехова.
Не сломила его нужда в юные годы. В семье Ореховых было 11 душ. Жили в двадцатые годы хуже нельзя. Посмеивалось кулачье над бедностью отца Василия: «Мишка гладкий, как орех. Не зря фамилия такая у голоштанника». Рос Вася смелым, добрым, веселым. Все ладилось в его руках, любая работа спорилась. Первым в деревне в комсомол записался. После армии в колхоз вступил. Несколько лет председательствовал в нем—много трудов положил, чтобы хозяйство передовым стало.
Когда началась война, у Василия Михайловича было трое ребят один другого меньше, да двенадцатилетняя племянница на каникулы приехала. Фронт быстро придвинулся к району. Тут бы эвакуироваться спешно, а Орехов остался — не мог отказаться коммунист от предложения чекистов затаиться для борьбы в подполье.
Арест. Пытки. Побег из-под расстрела. Ранение. Травля овчарками. Предостаточно для того, чтобы изменился характер человека, ожесточился что ли. Василий Михайлович по-прежнему душевно относился к людям, был хорошим товарищем и семьянином. А когда в его руки попадала тальянка, надо было видеть, как светилось лицо, каким весельем искрились глаза этого бесстрашного народного мстителя.
Находились товарищи в штабе, говорили: поберечь надо человека, и так его жизнь — подвиг. Поступить так — означало бы проявить неуважение к Орехову.
Не помню точно кто, но, думается, Рожко или Солдатов, взяли на себя тяжкую обязанность — сказать о гибели Орехова его жене Анне Павловне. Она вместе с детьми находилась в те дни в лагере отряда Ветковского. Горе не сломило эту мужественную женщину. Она по-прежнему ревностно выполняла обязанности хозяйки в отряде. Ее материнское сердце было открыто не только для своих детей.
Анна Павловна и дети Орехова остались живы. Здравствуют и ныне. Как счастлив был бы наш боевой товарищ, зная, что его вдова, несмотря на лишения первых послевоенных лет, подняла детей. Выросли они настоящими людьми. Леонид — мастер на заводе в Кронштадте. Евгений — судосборщик на верфях Выборга. Ольга — высокой квалификации сварщик в Подмосковье. Не это ли лучший памятник Орехову!
Работая над рукописью своих воспоминаний, я встретился с племянницей Орехова, девчушкой, бывшей вместе с его семьей в оккупации, Алиной Александровной и ее матерью Федосьей Павловной Серебровой. Их рассказ помог узнать многое из жизни Василия Михайловича до прихода его в нашу бригаду. Не могу не пересказать один эпизод, связанный с попыткой ищеек Крезера поймать Орехова.
Однажды зимой Василий Михайлович на ночь пришел домой. Чей-то недобрый взгляд заметил его появление. На рассвете Анна Павловна пошла к родственнице в центр деревни (изба Ореховых стояла на отшибе, под горой) и вдруг видит — по дороге от Опочки едут гитлеровцы. Метнулась домой. Крикнула:
— Василий, за тобой!
Выбежал Орехов с наганом и гранатой в руках, бросился по горе к лесу.
— Мамка, следы.
Это сказал девятилетний Леня. И тут же, схватив санки, побежал вдогонку за отцом.
Гитлеровцы перерыли все в хате Ореховых. Постояли, посмотрели, как лихо съезжает с горы на санках мальчишка. И пошли делать обыск к родственникам Василия Михайловича. Так смышлены! Леня помог спастись отцу.
После налета на Бальтино отряды бригады не проводили крупных операций осенью 1943 года. Да и соседи наши тоже. И тому была веская причина. 7 октября войска Калининского фронта выбили гитлеровцев из города Невеля. Было освобождено от оккупантов несколько десятков населенных пунктов на подступах к этому важному опорному узлу сопротивления вражеских сил. Несколько позже наши части вышли в восточную часть Братского партизанского края, но продвинуться дальше не смогли. Линия фронта стабилизировалась на рубеже город Пустошка — озеро Нещедро — город Дретунь. В остальной (большей) части края расположились фронтовые дивизии вермахта. Отдельные формирования калининских партизан (бригада Петра Васильевича Рындина и др.) соединились с частями Советской армии. Большинство же бригад и отрядов продолжали борьбу в осложнившейся обстановке.
За три недели до освобождения Невеля подпольные райкомы партии Себежского, Идрицкого, Опочецкого и Красногородского районов приняли очень важное решение. Все партизанские отряды и штабы были передислоцированы из деревень в леса. Одна из причин — участившиеся бомбардировки и обстрелы с самолетов населенных пунктов, где находились партизаны.
— Фашисты, конечно, не оставят партизанские деревни в покое,— говорил на совещании комбригов и комиссаров бригад председательствующий Андрей Семенович Кулеш,— и все же потери у населения будут меньше.
Последний раз штаб бригады ночевал в деревне Брод с 15 на 16 сентября. Вместе с отрядом «25 лет Октября» мы обосновались в лесах между деревнями Церковка — Ровново. Отряд имени Жданова перебрался на болотные острова южнее деревни Агафоново, отряд имени Кирова — на острова Великого болота, что северо-западнее селения Мулдово. Отряд Смерть оккупантам» стал базироваться в районе озер Близнецы.
В октябре и ноябре подрывные и боевые группы бригады действовали главным образом в Красногородском и Себежском районах. Примерно каждое пятое столкновение с гитлеровцами или диверсия на дорогах приходились на Идрицкий район. Командиры отрядов посылали партизан на боевые задания почти ежедневно. Проводились налеты на ссыпные пункты зерна, маслосырзаводы. Уничтожалась телефонно-телеграфная связь. Реже, но минировалась железная дорога. И конечно, наносились по подразделениям гитлеровцев удары из засад.
В ноябре были дни, когда на шоссейных дорогах одновременно действовали несколько наших боевых групп. Так, 17 ноября диверсии результативно совершили подрывники под командованием Артемьева, Колмычевского, Павлюченко, Иванова. А подрывная группа отряда «Смерть оккупантам» — в составе Владимира Кирьянова, Павла Константинова, Николая Ладисова, Егора Шваренка, Виктора Михеенко — на железной дороге Идрица — Себеж районе станции Кузнецовка тремя минами натяжного действия подорвала и пустила под откос эшелон противника, идущий от фронта в Латвию. В поезде в нескольких вагонах находились солдаты офицеры, а на платформах подбитые автомашины и орудия. В результате крушения были разбиты паровоз, 9 крытых вагонов и 6 платформ. На друге день боевая группа отряда имени Жданова в составе Федора Осипова (командир), Валентины Бусовой, Федора Колмычевского, Ивана Никитина, Петра Игнатьева, Александры Михайловой (медсестра), Николая Ильина, Егора Леонова, Павла Алексеева, Ивана Алексеева на шоссе Красногородск — Велья в районе деревни Стенисеево уничтожила два моста и телефонную связь на протяжении 1500 метров.
Несколько удачных диверсий удалось совершить 26 и 27 ноября. Подрывники отряда «25 лет Октября» (старший в группе Иван Яковлев) под покровом ночи спустили под откос эшелон вблизи Идрицы. Другой эшелон постигла такая же участь на рассвете в районе деревни Шуты (квадрат 42—88). Организовала крушение группа подрывников отряда имени Кирова, которой командовал Николай Павлюченко.
Командование группы армий «Север» сразу после прорыва советскими войсками блокады Ленинграда начало возводить мощную оборонительную линию «Пантера». Ее фланг от города Острова устремлен был к Идрице и дальше к Полоцку. Осенью 1943 года гитлеровцы форсировали строительство одного из отрогов «Пантеры» — линии «Рейера». Она располагалась по господствующим высотам шоссе Опочка — Себеж. На промежуточных рубежах между озерами было построено несколько десятков долговременных огневых точек. Подходы к ним крыты густой сетью проволочных заграждений.
Наводнение нашего края в октябре — ноябре левыми войсками вермахта, форсированное строительство гитлеровцами оборонительных рубежей требовало от калининских, белорусских и латышей партизан усиления деятельности «партизанского прожектора». Так метко назвал разведку народу мстителей легендарный комбриг Алексей Михайлович Литвиненко, чья бригада совершила первый на советско-германском фронте партизанский глубокий рейд по фашистским тылам. Рейд этот (главная цель — разведка) продолжался с октября 1941 года по май 1942 года.
Мы не обижались на свой «прожектор», но маневр наших разведчиков в новых условиях был стеснен. Особо большое значение теперь приобретали связи отрядов и командования бригады с бойцами незримого фронта— подпольщиками.
В Красногородском районе накануне его оккупации не было оставлено организованного подполья. Небольшие очаги подполья, созданные бесстрашным секретарем райкома комсомола Петром Самойловым в первые месяцы войны и бойцами «неуловимой восьмерки» весной — летом 1942 года, были уничтожены агентами Крезера и ищейками ГФП. Но сопротивление оккупантам зрело, продолжалось. Летом и осенью 1943 года не было в районе населенного пункта, где не находился бы человек или маленькая группка, снабжавшие разведывательной информацией нашу бригаду, спецотряд Бобруся, чекистскую бригаду Назарова, спецотряд майора Чугунова.
Член подпольного райкома партии Павлова, Солдатов и его ближайшие помощники в отрядах, секретарь подпольного райкома комсомола Мария Сауликова (Фаина) через связных и непосредственно имели довольно прочные контакты с подпольщиками. Часто на связь с ними ходили комсомольские активисты Вера Ганюшкина, Юрий Якимов, Егор Гаврилов, Елена Еремеева.
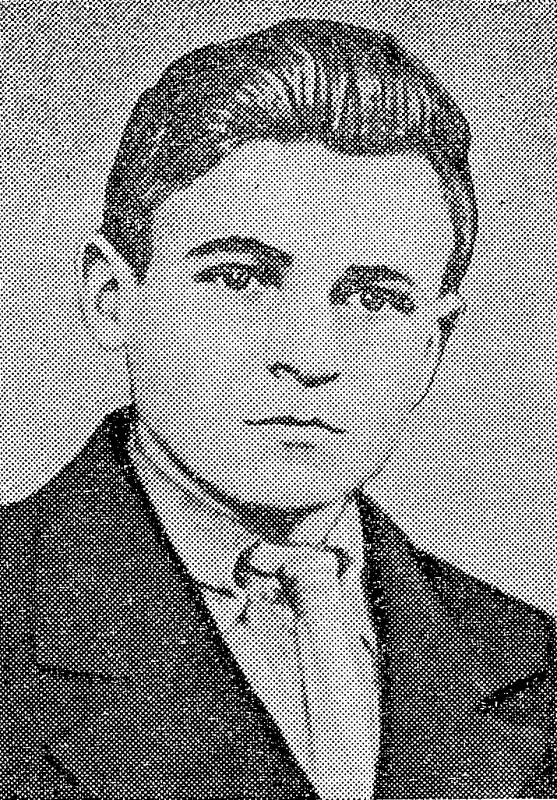
Николай Ильин - руководитель подпольной группы
С апреля по ноябрь 1943 года действовала подпольная организация молодежи в самом Красногородске. Начало ей положил и стал признанным вожаком подпольщик Николай Ильин. Двадцатилетний комсомолец до войны работал бухгалтером в МТС. В армию его не взяли из-за инвалидности. Паренек отважный, очень деятельный, Николай с первых дней оккупации вступил в противоборство с ненавистным врагом: собирал и прятал оружие, распространял советские листовки. Смело можно утверждать о его связях на первых порах с Самойловым. Припоминаю — мне об этом однажды говорила Павлова.
Весной 1943 года Ильин объединил полтора десятка юношей и девушек в группу, разбив ее на пятерки. У каждого из подпольщиков к этому времени были за плечами небольшие диверсии. Так, Петр Добрынин (сын красного партизана в годы гражданской войны) с товарищами сожгли горючее, которое гитлеровцы хранили в здании бывшей заготконторы, выпустили из баков бензин на складе в деревне Станкеево. Молоденькая учительница Екатерина Гончарова с подругами Антониной Кузьминой, Марией Кирьяновой и Марией Алексеевой доставали бланки немецких документов и снабжали ими тех, кому грозил угон в Германию. Алексей Сергеев, Владимир Севастьянов, Валентин Алексеев Александр Геоцинтов, Николай Вишняков собирали боеприпасы, писали и распространяли листовки.
С нами подпольщики установили связь через Ефима Николаева из деревни Агафоново. Летом связником стал Семен Орлов из деревни Проглотило. Информация, получаемая от группы Ильина, была добротной, содержала всегда точные данные о Красногородском гарнизоне немцев. И что особо важно — оперативно предупреждала о проследовавших к линии фронта подразделениях вермахта, о выходах из поселка карателей.
В послевоенные годы, благодаря опубликованным воспоминаниям участников антифашистского подполья, документальным очеркам и повестям, советские люди узнали многие имена героев незримого фронта. Минское подполье. Одесское. Севастопольское. Витебское... Отдавая дань мужеству и беззаветной отваге подпольщиков крупных городов, мы не можем не восхищаться подвигом бойцов молодежного подполья небольших поселков, райцентров, где были более трудные условия для борьбы с оккупантами. Красногородск, Опочка, Себеж— здесь все на виду. Большинство жителей знают, чей ты, кто ты. А городок нашпигован вражеской солдатней, агентами тайной полевой полиции. И тут нет лабиринта улиц и развалин, в таинственных потемках которых можно исчезнуть после диверсии. Всякий не выверенный шаг ведет к провалу, к гибели. А ты едва перешагнул рубеж совершеннолетия и тебе неведомы тонкости конспирации. В груди все кипит от ярости но, встретив фашиста, ты обязан быть спокойным, а то и униженно любезным, ведь и улыбка в арсенале подполья — оружие.

Красногородские подпольщицы (слева направо): М. А. Шопен (Семенова), А. М. Кузьмина, Е. И. Гончарова (Курганова)
Группа Ильина погибла из-за предателя. Им оказался бывший директор школы Алексей Степанов. С душевной гнильцой был человек. Не разглядели ее в свое время товарищи по работе, начальство районное. А мысли комсомольца Ильина о Степанове мне понятны: «Человек образованный — ребят учил. Не юноша. До войны активистом был. Первые боевые задания выполнил с рвением. Как тут не довериться?»
Подпольщиком стал Степанов не по приказу фашистской контрразведки, но, попав в поле ее зрения, быстро согласился на роль провокатора. Он выдал Ильина и его товарищей в момент, когда они готовили с нашей помощью взрыв тракторного парка и крупного склада зерна.
Аресты были произведены в одни сутки.
Ильина расстреляли полуживого. Несколько дней вожак подполья вел мужественную борьбу со своими палачами. Последнее время он не мог даже подниматься с нар, тело у него загнивало. Об этом рассказала нашим товарищам одна пожилая крестьянка, арестованная, но впоследствии выпущенная из тюрьмы. Она и передала прощальные слова Ильина. Обмывая его раны, женщина горько заплакала. Николай попытался улыбнуться и сказал:
— Мне очень худо сейчас, но я спокоен, я убежден: группа наша делала нужное для Родины дело.
Что это — спокойствие отчаявшегося человека? Или закаменелая воля фанатика?
Хорошо на этот вопрос ответила Маша Сауликова. Выступая на комсомольском собрании отряда, она говорила:
— Мы воюем не только с помощью винтовки, гранаты, тола. Мы воюем огнем сердец. Это — наше главное оружие.
Арестованных подпольщиков некоторое время держали в красногородской тюрьме. Допрашивали. Избивали резиновыми дубинками. Особенно жестокими были на допросах майор Шуберт и переводчик Ивольт. Затем подпольщиков направили в Опочку, где они сидели в одиночках и ежедневно подвергались избиениям. Потом бросили в концентрационный лагерь Моглино, под Псковом.
Как кошмарный сон, вспоминает время, проведенное в фашистских лагерях смерти (Моглино, Саласпилс, Франция), Екатерина Ивановна Гончарова (ныне Курганова), проживающая сейчас в латышском городе Сигулда. В одном из писем мне она рассказывает: «Однажды наш женский барак наказали; за какую-то мелкую провинность страшной пыткой. Вечером принесли еду—очень соленую полувареную рыбу, а потом два дня не давали пить. Мучаясь от жажды, мы лизали каменные стены... Как-то, несмотря на строгое запрещение, я подошла к окну и увидела солнечный закат. Нет у меня слов, чтобы описать ту бурю в груди, которая поднялась в те секунды. Я увидела солнце!»
Все ужасы концлагерей испытал и отважный подпольщик Петр Добрынин. В мае 1944 года ему с двумя военнопленными удалось бежать. Было это Бо Франции. Укрылись беглецы на квартире коммунистки. Гражданской одеждой их снабдили перед побегом заключенные немецкие антифашисты. Через неделю красногородский подпольщик стал бойцом отряда французского Сопротивления. Кличку ему дали Ворон... Петр Васильевич Добрынин (проживает он сейчас в Красногородском, работает в объединении «Сельхозтехника») бережно хранит карточку — свидетельство об его участии в боевых делах в рядах французского движения Сопротивления.
За попытку бежать из концлагеря были расстреляны подпольщики Валентин Алексеев и Бубнов. В Польше в лагере смерти гитлеровцы сожгли Антонину Кузьмину. Погибла Мария Кирьянова с мужем. Уцелевшие от ареста подпольщики Красногородска немедленно ушли в лес к партизанам и в спецотряды. Провокатора Степанова разоблачили в послевоенные годы чекисты.
Основную массу бойцов незримого фронта, связанных с нами и нашими соседями — другими партизанскими формированиями, все же составляли подпольщики-одиночки. Были среди них бывшие колхозники, учителя, служащие советских учреждений. Молодые, пожилые, обремененные семьями. Курганова-Гончарова в одном из своих писем ко мне вспоминает встречу с молодой женщиной Петровой (к сожалению наша Катря запамятовала ее имя), имевшей двух ребятишек — Гену и Аскольда. Однажды Петрова пришла к Гончаровой с детьми. Бумажка с разведывательной информацией была заплетена в волосы куклы. Катря спросила:
— А вдруг бы задержали? Как же дети?
—Они дети командира Красной Армии. А я его жена,— ответила Петрова.
Фашисты расстреляли Петрову. Дети остались живы. В первые дни после войны они находились в детском приемнике Красногородска. Как-то сложилась их судьба? Встретились ли они с отцом? Как было бы хорошо, если бы, прочитав о подвиге своей матери, они дали бы о себе знать.
Агенты ГФП вышли на след связника Ефима Николаева, арестовали, зверски пытали в застенке. После пытки приводили в чувство. Требовал гестаповец, угрожал новыми мучениями:
—Кто приходил к тебе из поселка? Где назначена очередная встреча?
— Разные люди приходили. Одежонку меняли на хлеб. Разве всех упомнишь,— шептал разбитыми губами Николаев.
Никого не выдал патриот. Фашисты расстреляли Николаева, его жену Дарью, их пятнадцатилетнего сына Михаила.
Вот она, война огнем сердец!
Как правило, подпольщиков-одиночек знал весьма узкий круг наших товарищей. Обычно они значились у нас под разными кличками. Так, В. П. Григорьев из деревни Авдеенки был Жуком, А. В. Васильев из деревни Белоборье — Львом. Сосной стал А. И. Федоров из деревни Проглотино, Мучкой — А. И. Петрова из деревни Антоненки. К нашему великому огорчению, фамилии многих подпольщиков- одиночек не восстановлены. А списков их не составляли. И все же я назову еще несколько имен. Они сохранились в памяти моих боевых товарищей, причастных к связи с подпольщиками.
Заместитель командира отряда по разведке П. П. Петров вспоминает Евгению Васильеву из деревни Агафоново, достававшую сведения из Опочецкой полевой жандармерии, Антонину Лебедеву из деревни Сорокино, Е. Петрову из Белоборья. Вспоминая погибшего Ефима Николаева, Петров лишь строчкой обмолвился о том, что сам был при аресте нашего связника. А ведь он не просто присутствовал при этом. Гитлеровцы схватили и его, но Павел сумел по дороге разоружить полицая, которому приказали доставить его в комендатуру.
Мария Семеновна Федорова (Орлова) в числе активно помогавших нам сбором разведывательной информации называет Раису Васильевну Васильеву, Марию Семеновну Бойкову, Евдокию Ивановну Иванову, Клавдию Порядину, Антонину Васильеву, Матрену Тимофееву, Владимира Лебедева, Анну Васильеву, Марию Лебедеву. Письмо Федоровой напомнило о ценных сведениях, которые получали партизаны от служившего в Красногородской полиции Владимира Никитина. Связь с ним держала Раиса Васильева.
Осенью 1943 года и третьей военной зимой мы в основном действовали на дорогах. Наш «партизанский прожектор» вкупе с подпольщиками зорко следил за ними и гарнизонами, расположенными в населенных пунктах на шоссе и большаках. Головным среди них был Мозулевский. Он контролировал дороги Мозули — Красногородск, Мозули — Опочка, Мозули — Лудза. Гитлеровцы, обосновавшиеся в Мозулях, нередко действовали против нас вместе с подразделениями айзсаргов [1] из созданного на старой государственной границе с Латвией кордона.
Мы, как правило, знали о предполагаемых карательных акциях этого гарнизона благодаря зоркому глазу и сметке А. А. Чугуновой, Т. К. Жукова, В. Е. Евсеева, Н. Е. Румянцевой, А. Д. Дмитриевой, М. Б. Борисовой. В гарнизонах, располагавшихся на дорогах Луга — Столбово, Майзелово — Коженцы, Покровское — Кренево, за противником следили В. Л. Жукова, 3. М. Тихонова, И. Д. Дмитриев, К. Е. Бартеньева, И. Д. Чухнова, Е. И. Волкова, В. Л. Чухнов, У. С. Баранова, В. В. Васильева, В. Г. Гаврилов, А. А. Артемьева.
Мужественные подпольщики были у нас и в Себежском районе, где действовала разведывательная сеть П. Н. Петровича — заместителя командира 5-й Калининской партизанской бригады по разведке. Себежанка Е. А. Попова из деревни Замошье переслала в наш штаб схему расположения складов и аэродрома гитлеровцев. Мы немедленно передали эти сведения командованию. Наши летчики дважды успешно бомбили и склады и аэродромы. Е. П. Руденкова и ее сын Николай неоднократно пересылали нам графики движения поездов через станцию Кузнецовка, помогали подрывникам бригады в диверсиях на этом участке железной дороги. Добрым словом нужно отметить подпольщиков из себежских деревень С. Р. Романова, П. П. Богданова, А. О. Федотенко, С. А. Абрамова, А. П. Алексееву, Е. И. Барейкина, А. И. Иванова, М. С. Васильева (Батька), С. О. Борисова, Т. И. Новикова.
Немалую роль в создании нашей разведывательной сети играли семейные и родственные связи партизан. «Глазами и ушами» нашей разведки были жена и сын ветерана бригады Ерофея Федоровича Иванова Ольга Владимировна и Петя. Смелый подросток проникал в самые опасные места, куда взрослые не могли даже приближаться, и замечал все то, что укрыто было у оккупантов под брезентом или находилось за колючей проволокой. Шилин Степан Еремеевич с сыном Михаилом воевали в составе отряда имени Жданова. Оба отличались завидным спокойствием, никогда не поддавались панике. Жена Шилина Ефросинья (партизаны звали ее тетей Феней) и их дочь Клавдия неустрашимо вели разведку, укрывали раненых и больных партизан. Так же поступали мать нашей подрывницы Елены Еремеевой —Пелагея Андреевна, родители Маши Орловой — Семен Тимофеевич и Маланья Егоровна близкие и родные других народных мстителей.
Помогали нам даже те, от кого, казалось, нельзя было ждать помощи. Жил в деревне Мулдово Красногородского района крестьянин Константин Васильевич Васильев. Был он, как говорится, притчею во языцех в устах местного начальства. В колхоз вступить отказался, какое бы мероприятие ни проводили на селе — Васильев поперек. Бурчал, выражал недовольство по любому поводу. Но вот пришел враг на берега Иссы и Синей — преобразился человек. Помогал партизанам оружием, хлебом, одеждой. А сколько у него было темперамента, гнева, когда обрушивался он на односельчан, поверивших в обещание оккупационных властей выделить половину собранного урожая в пользу крестьян при условии сдачи всего зерна в распоряжение хозкомендатуры.
— Волк ощерил клыки,— говорил Васильев соседу, — а ты рассолодел совсем, решил, что он тебе улыбается.
— А тебе-то какая печаль? — пытался возразить собеседник. — Ты же единоличником был!
— Был для того, чтобы тебе, дурню, сравнивать можно было добрую колхозную жизнь с моим мыканьем,— парировал Васильев.
Однажды в деревню приехало трое немецких фуражиров. Старший из них увидел Васильева, сидевшего на завалинке, через переводчика спросил у него, где староста деревни.
Васильев степенно поднялся и с кривой усмешкой произнес:
— Где твой холуй-староста, не ведаю. А мой староста в Москве. Всесоюзный. Калининым прозывается.
Плюнул и пошел прочь. Переводчик-полицай побоялся точно перевести слова Васильева.
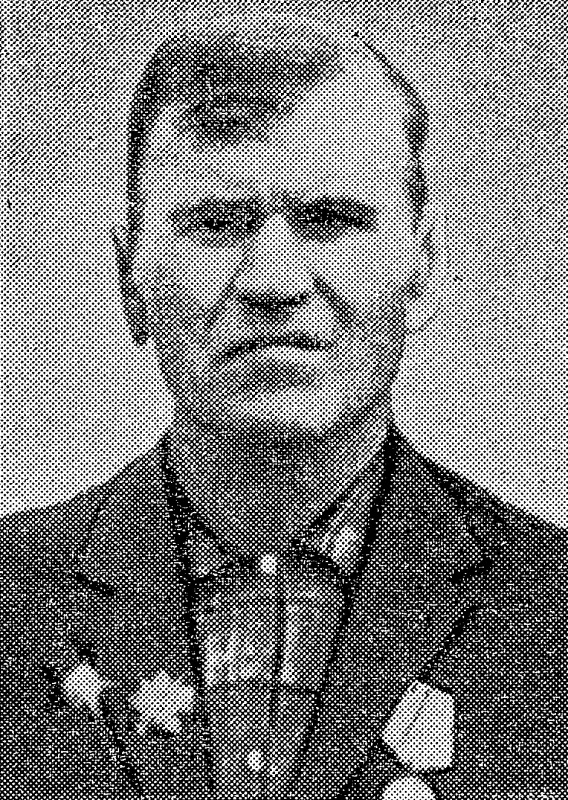 | 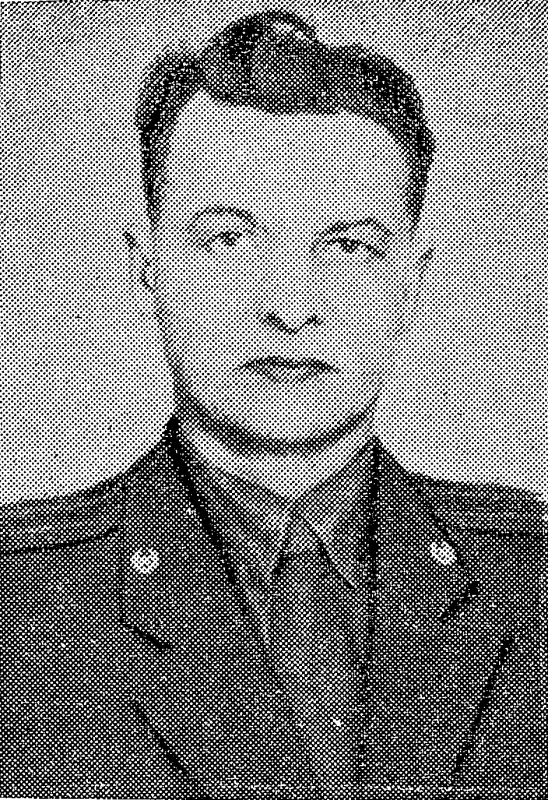 |
| Е. Ф. Иванов - начальник штаба отряда | П. В. Бобрусь - командир спецгруппы "Гонтарь" |
С некоторыми нашими подпольщиками-одиночками была связана спецгруппа Калининского штаба партизанского движения. После того, когда ее возглавил П. В. Бобрусь, она быстро превратилась в крепко сколоченный отряд с хорошо развитой разведывательной сетью. С Петром Васильевичем у нас были очень тесные и дружественные контакты. Хорошо помню его по концу 1943 года. Неброский на вид. Невозмутимый. Вот только дерзинка в глазах. Был у него поразительно здравый смысл в критические моменты. А их у Бобруся было предостаточно. И тогда, когда руководил он разведкой в бригаде смоленских партизан. И тогда, когда обеспечивал связь армейских и партизанских разведок. В декабре 1943 года фашисты сделали попытку уничтожить спецотряд неожиданным ударом двух крупных подразделений вермахта. Мы об этом намерении врага узнали сразу. Я не мог оперативно направить людей на помощь, порекомендовал Бобрусю покинуть деревни Кишняки и Овсянки, где находился в то время отряд, дескать, не стоит в данном случае искушать судьбу. Петр Васильевич ответил:
— Лучше искушать, чем пребывать в неизвестности или бояться.
Разведанные агентами ГФП тропы к базе отряда встретили гитлеровцев взрывами партизанских мин. По солдатам ударили пулеметы из нежилых построек. До сумерок держал Бобрусь карателёй в снегу и выскользнул из ловушки без потерь.
В районе Синей и Иссы действовали бойцы из спецотряда штаба Северо-Западного фронта. Командовал ими майор Константин Дмитриевич Чугунов. Мне на него жаловался Солдатов:
— Как же так, товарищ комбриг,— говорил он,— пришел человек в наш район действий, а при первой же встрече с железной категоричностью в голосе заявил о нежелании встречаться с нашими. Уж больно секретит все.
— Очевидно, у него задачи посложнее,— ответил я.— Да ты небось и сам это понимаешь. Разве забыл, как учил своих помощников: к секрету, доверенному двум, не подключать третьего?
— Оно конечно,— засмеялся наш главный разведчик и добавил: — А мужик Чугунов — кремень.
Мне понравился Чугунов. В отличие от отряда Бобруся его отряд диверсиями занимался редко. Главным для него была разведка для фронта. Вел ее Чугунов масштабно. Его люди действовали под Себежем, Опочкой, в Латвии, на белорусской земле.
Знаю, что однажды за Чугуновым присылали с Большой земли специальный самолет и майор докладывал обстановку у старой Латвийской границы лично начальнику штаба фронта. Мне тоже, как и Солдатову, Чугунов при встрече, рассказав весьма коротко о своих задачах, сказал:
— Пусть ваши разведчики не садятся мне на «хвост». Тесно. Контактироваться буду при катастрофическом положении, а его —тут он как-то виновато улыбнулся — мы не имеем права допустить.
Кроме старых добрых соседей — бригад Марго, Бойдина и отряда Самсона — всю вторую половину 1943 года рядом с нами и нередко вместе с нашими отрядами активно сражались с фашистами 4-я Ленинградская партизанская бригада и чекистская бригада «москвичей». Бойцы и командиры последней не были фактически москвичами. И засылало их в тыл врага УНКГБ по Калининской области, а не Москвы. Бригада носила имя военного партизана времен наполеоновского нашествия на Россию — Дениса Давыдова, но в народе ее упорно называли московской.
Небольшая, очень подвижная бригада провела за короткий срок несколько диверсий на железной дороге (подорвала 12 воинских эшелонов) и на магистральном Ленинградском шоссе на участке Остров — Опочка — Пустошка. Чекисты добыли подробные сведения о карательных органах врага, очистили многие населенные пункты от скверны — предателей и изменников Родины. Командовал бригадой Александр Владимирович Назаров — человек еще молодой, но уже дважды побывавший со спецзаданиями в тылу врага.
Партизаны-ленинградцы появились у нас в октябре. Их командира Анатолия Дмитриевича Кондратьева я принял в своей землянке в районе деревни Церковки. Над лагерем повисли лохмотья туч. Дождь плющился в стекло. А мы сидели у шквар- чащей на сковороде яичницы и вели неторопливый разговор. Кондратьев был первым живым источником конкретной информации о положении в городе, готовящемся к последнему сражению за полное уничтожение блокады. Анатолий Дмитриевич рассказал мне о начавшемся всенародном вооруженном восстании в Ленинградской области. Защитники невской твердыни и их верные помощники — партизаны — уже нацеливались на прорыв в Прибалтику. Это было видно и из задания Ленинградского штаба партизанского движения 4-й бригаде на зимне-весенний период 1943—1944 годов. Оно включало такие пункты, как «Разведать старую латвийскую границу», «Насадить агентуру в городе Резекне».
— Пока враг отжал моих ребят от Острова,— говорил мне Анатолий Дмитриевич.— Уж больно войск у него там понапихано. Поживем немного вблизи твоих отрядов. А там рванем к морю Балтийскому.
До моря 4-я Ленинградская не дошла (не было необходимости), но в конце зимы она славно воевала на путях, по которым из Литвы, Латвии и Польши спешила помощь разбитым фашистским дивизиям под Ленинградом. Лихим налетом один из ее отрядов разгромил сильно укрепленный участок «Пантеры» в районе станции и поселка Ритупе, находившихся в 40 километрах юго-западнее города Острова. Такие налеты усложняли и без того нелегкое положение 16-й немецкой армии. Историк группы армий «Север» Вернер Гаупт (он был участником отступления за линию «Пантера») пишет: «Противник напирал. Арьергардные части дивизий вынуждены вести энергичные оборонительные бои, чтобы не допустить обхода колонн с флангов. К тому же возникла опасность со стороны партизан».
 | 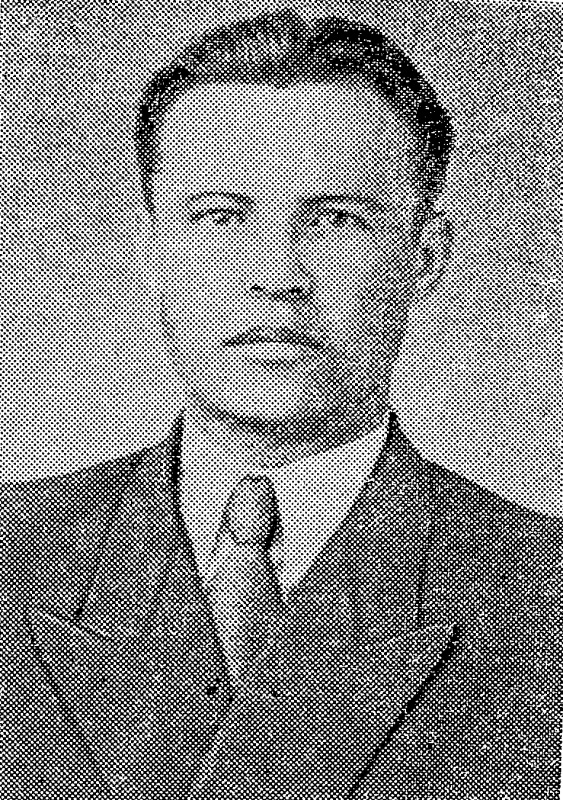 |
| А. Д. Кондратьев - командир 4-й Ленинградской партизанской бригады | Ю. Я. Якимов - политрук взвода |
В разгар нашего разговора с Кондратьевым подошел комиссар бригады ленинградцев Михаил Васильевич Павлов. Опытный партийный работник (до войны первый секретарь Новгородского городского комитета партии), он партизанил с осени сорок первого года. Веселый, общительный, Павлов не расставался с гармошкой. Принес ее и в штабную землянку. Вскоре в моей «резиденции» раздался довольно стройный хор голосов... Давненько я не пел.
— А знаешь, Вараксов,— неожиданно прервал пение Павлов,— пока вы тут, комбриги, калякали, наши хлопцы обнаружили среди ваших бойцов ребят из Ленинграда. Где вы их поднабрали?
Пришлось познакомить гостей кратко с историей 10-й Калининской. На утро этот разговор имел своеобразное продолжение. Несколько партизан попросили у меня разрешения влиться в 4-ю бригаду. Мотив один: «Мы — ленинградцы».
— Твое мнение, комиссар? — спросил я у Романова.
— Ленинград — особый город. И ленинградцы...
Я прервал Павла Гавриловича:
— Ты мне лекций не читай. Говори прямо — за или против?
— Конечно, за.
Был и такой случай, В землянку вошла партизанка Серова. На глазах слезы. Спрашиваю:
— В чем дело, Елизавета Дмитриевна? Обидел кто?
— Нет,— отвечает,—от радости плачу. Своих земляков повидала. Расцеловала каждого. Зовут с собой. А мне жаль с десятой расставаться. Сколько тяжелого вместе пережили. До конца буду у вас. А зашла обнять Анатолия Дмитриевича и благословить по-матерински на последние бои за мой родной Ленинград.
Серова до войны работала в одном из ленинградских ателье портнихой. В начале июня сорок первого поехала в отпуск к родным в Себежский район, да там и застряла. Было ей под пятьдесят, но она добровольно пришла в один из наших отрядов. Шила, чинила, штопала одежду партизан. Не отказывалась ни от какой работы. Золотые руки были у ленинградки.
Славны дела подрывников, разведчиков, пулеметчиков, но немыслимы их успехи без бойцов партизанского тыла. Особенно холодной осенью и студеной зимой, в условиях, когда жильем партизана стала землянка. Как тут не вспомнить с сердечной благодарностью неутомимых старшин хозяйственных частей С. ,. А. Алексеева, Я. Ф. Курицына, Я. П. Петрова, А. Ф. Дроздецкого, И. Т. Борисова, П. А. Макеенка, умельцев выделывать кожи, портных, сапожников С. А. Андреева, В. П. Жагору, С. Е. Шилина, В. Ф. Федорова, Д. И. Васильченко, И. Е. Дмитриенко, Ф. Т. Георгиева, В. М. Николаева, В. И. Чапкевича, С. К. Евсеева и других «тыловиков». Это они пошили 550 пар кожаной обуви, 350 полушубков, много курток и брюк из брезентовых мешков и парашютов, скатали 350 пар валенок.
Сказали свое слово и партизаны-плотники. На бревнах жилых землянок можно было прочесть имена А. Д. Васильченко, С. Ф. Павлова, Н. В. Васильева, С. Ф. Шершнева, Ф. К. Данченко, Т. П. Иванова, М. А. Устинова, Н. И. Шваренок, В. И. Тимофеева, Р. М. Громова, Т. Н. Шарова, А. А. Шидловского. Их руками в лесных чащобах и на островках болот были сооружены землянки, в которых производился размол зерна, выпечка хлеба, сушка сухарей, размещались ремонтные и пошивочные мастерские.
Создавать уют на войне — искусство. Не парадокс ли? Война и уют. И все же это так. И солдату и партизану обязательно нужно хотя бы час-другой в неделю душевно отдохнуть, почувствовать себя в домашней обстановке, что ли.
Когда наши отряды размещались в деревнях, было не очень трудно организовать досуг бойцов. Другое дело зимой — в лесных лагерях. Вот почему мы с комиссаром охотно поддержали предложение комсомольских вожаков Марии Сауликовой, Веры Ганюшкиной, Юрия Якимова построить бригадный клуб. Дело в свои руки взяли комсомольцы.
В середине декабря на опушке леса вблизи южной окраины церьковского болота поднялась добротно сбитая из бревен землянка. «Зал» клуба имел площадь примерно 70 квадратных метров. Была небольшая сцена. Вместо стульев — скамейки. Вместо электрических лампочек — самодельные светильники. Ведала клубом Мария Клементьева (ныне Цыганкова). Она с помощью комиссаров отрядов В. С. Антипова, Н. А. Волкова, В. А. Федорова и П. П. Макарова выявила желающих участвовать в самодеятельности, и вскоре клуб стал желанным местом отдыха молодежи (в бригаде большая половина бойцов имела возраст до двадцати лет), да и бородачи наши охотно сюда заглядывали. Однажды его посетил уполномоченный Калининского штаба партизанского движения А. И. Штрахов. Он вместе со всеми аплодировал хору под руководством командира взвода И. Н. Пащенко, исполнявшему украинские и белорусские песни, от души смеялся над сценой отступления фашистов от Москвы. Покидая бригаду, Алексей Иванович говорил:
— За клуб — молодцы. Сделайте его центром и политической работы. Самодеятельность у вас превосходная. Честно, так отдохнул на вашем вечере, будто в московском театре побывал.
На щите у клуба вывешивалась стенная газета бригады. Живая, колкая, она привлекала к себе внимание вернувшихся из боевых заданий подрывников, разведчиков. Рядом висели листочки со сводками Совинформбюро, последними известиями, принятыми по радио. Ими регулярно снабжали клуб радистка К. Н. Щекотихина и шифровальщик И. М. Тетеревников.
В клубе многие из нас встретили и новый, 1944 год. Небольшую поздравительную речь произнес комиссар бригады Романов. А потом новогодний вечер повел Василий Андреевич Федоров — большой мастак на шутки и острое слово. Выступал хор. Соло на балалайке исполнил Федоров. Чудесно несколько песен спел двенадцатилетний партизан из отряда Ветковского Юра Кораблев, попавший к нам из-под Ленинграда.
Еще несколько номеров, и Василий Андреевич объявляет:
— Ну а теперь краковяк в честь Нового года. Танцуют все присутствующие в зале.
Танцы не состоялись. Прозвучал сигнал боевой тревоги. Вблизи лагеря появились каратели...
[1] Айзсарги — члены военно-фашистской организации буржуазной Латвии. Во время гитлеровской оккупации Латвийской ССР айзсарги участвовали в карательных экспедициях фашистов.
Метели снежные и свинцовые
В третью военную зиму снег рано лег на изувеченные боями берега Синей и Иссы. Зима была не такой студеной, как в 1941—1942 годах, но морозных дней хватало. Часто кружили вьюги, и точно чьими- то злыми руками били в спины уходивших на боевые задания подрывников, разведчиков.
В январе — феврале 1944-го мы продолжали войну на дорогах, но обстановка изменилась и далеко не в нашу пользу. Братский край фактически перестал существовать. Гитлеровцам удалось расчленить бригады, защищавшие его. Мы по-прежнему базировались в лесных массивах междуречья, но нередко приходилось покидать лесные лагеря. Отряды и боевые группы укрывались в урочище Лоховня — основной базе бригады Марго. Частыми гостями там были партизаны бригады Бойдина.
Мели метели снежные. Свирепствовали метели свинцовые. Зимой и весной фашисты обрушили на калининских партизан удары 19 крупных карательных экспедиций. Теперь в них всегда участвовали отменно вооруженные подразделения вермахта. После победы советских войск в январе 1944 года на берегах Невы разбитые и потрепанные немецкие дивизии отошли от Ленинграда к оборонительной линии «Пантера», фашистскому командованию нужно было во что бы то нр! стало очистить их тыл от партизан и... населения. Все сжигалось, уничтожалось, истреблялось на пути карателей.
17 января из Себежа в район отправилась карательная экспедиция: 600 гитлеровцев в сопровождении танкеток. Двое суток мела свинцовая метель в Козельцах, Борисенках, Ломах, Воробьях, Машневе и еще в восьми деревнях. Дымящиеся пепелища и ни одной живой души — результат «сражения» солдат вермахта со стариками, женщинами и подростками.
В это же время значительные силы гитлеровцев поддержанные авиацией, были брошены против 4-й Ленинградской партизанской бригады и наших лагерей. Противостоять подразделениям 107-го охранного и 640-го учебного полков врага мы в открытом бою не смогли бы. Командиры отрядов имени Кирова и Жданова приняли правильное решение — организовали засады. Что бы там ни говорилось и писалось, все же позиционная война —не партизанское дело. Оставшись один на один с регулярными частями врага, партизанские формирования не могут продолжительное время защищать занятые рубежи. Об этом свидетельствует опыт даже такого соединения народных мстителей, как бригада Александра Викторовича Германа — прославленного мастера гибкого маневра, партизанской тактики.
Если в середине января нам удалось в какой-то мере приостановить движение карателей и нанести им некоторый урон, то в период февральской карательной экспедиции пришлось покидать места своего базирования. Началась эта экспедиция 7—8 февраля, но узнали мы про нее раньше. Уже 5 февраля Солдатов доложил:
— Товарищ комбриг, есть данные о готовящемся выходе вражеских сил из Латвии в нашем направлении.
— А что доносит разведка из Красногородска? — спросил я.
— Комендант стягивает в поселок полицейские группы. Очевидно, для охраны, а гарнизон присоединит...
— Значит, новая карательная,— перебил я.
— Да. И размерами покрупнее предыдущей.

В. И. Марго - командир 5-й Калининской партизанской бригады
Мы сразу же связались со штабом Марго. Заместитель комбрига по разведке П. Н. Петрович подтвердил: экспедиция карателей вот-вот начнет действовать, в ней примут участие кроме охранных войск тыла два батальона вермахта с артиллерией.
Было ясно — гитлеровцы любой ценой попытаются до весны уничтожить или хотя бы рассеять бригады калининских партизан, действовавших в тылу и у границ линии «Пантера». Позже мы узнали (тогда лишь догадывались), что уже шли бои за Лугу и фашистская армия откатывалась к Пскову — Острову. Этому отходу всячески мешали ленинградские партизаны. Они создавали заторы для вражеской техники на шоссе Ленинград — Киев, а советские авиаторы наносили штурмовые удары по скоплению вражеских колонн. Это в те дни в дневнике командования группы фашистских армий «Север» появилась запись: «В районе действий 18 армии сильная партизанская деятельность на шоссе Псков — Луга».
Наши разведданные были точными. Действительно в экспедиции приняли участие три батальона охранных войск, два батальона вермахта с артиллерией и отряды полицейских. Действовали они с трех направлений: себежского, красногородского и из Латвии. Основной удар упал на бригаду Марго. Ее отряды отбивались двое суток, а затем покинули Себежский район — ушли к лесной деревушке Осиновик Опочецкого района. Здесь, как рассказывал потом Владимир Иванович Марго, в пяти домах и надворных постройках временно разместились свыше тысячи человек.
Тяжелый четырехчасовой бой с карателями вели отряды Бойдина у деревни Овсянки. В нем участвовал и разведотряд Бобруся.
В ночь с 10 на 11 февраля противник приблизился к нашим лагерям и сосредоточился на рубежах деревень Рубанка, Поповка, Тряпичино, Опросово, Бубново, Блонты, Ноглово. Мы организовали оборону западнее Тряпичино, южнее деревни Блонты и в населенных пунктах Лубьево, Церьковка, Копино. Весь день 11 февраля шла разведка боем, велась на отдельных участках слабая перестрелка. Очевидно, гитлеровцы не знали точно, одни ли мы или с нами оборону держат другие формирования калининских и ленинградских партизан. Наш штаб получил дополнительные сведения о силах карателей. Они пополнились большим отрядом айзсаргов.
— Придется прорываться. Многовато фашистов, 5 пушек, больше десятка минометов,— перечислял на коротком командирском совещании начальник штаба.
— Лучше ускользнуть,— настаивал Солдатов,— окружения полного пока нет.
И ночью мы ускользнули — вышли в тыл противника почти без потерь. Каратели утром разгромили пустые землянки двух наших отрядов и, уничтожая остатки деревень на своем пути, вернулись в Себеж и Латвию.
В боях с отрядами бригад Марго, Гаврилова, Бойдина и Бабакова (последняя до февраля 1944 года действовала в Кудеверском и Новоржевском районах) гитлеровцы потеряли более 400 солдат, офицеров и полицаев.
Ускользнуть из-под носа превосходящего в силах противника нам помогла разведка, хорошо организованная Солдатовым и командирами отрядов. Разведчики смело проникали в расположение подразделений карателей и любой ценой доставляли необходимые сведения. В подтверждение приведу эпизод, который мы вспомнили при последней встрече с ветераном 10-й Калининской Владимиром Ивановичем Величко, кандидатом технических наук, старшим научным сотрудником одного из научно-исследовательских институтов Ленинграда.
Володя, вступивший в ряды партизан еще до создания нашей бригады, со временем стал храбрым разведчиком и бывалым бойцом. В ночь на 11 февраля Солдатов послал его, Надю Дмитриеву и еще одного молодого партизана разведать путь для возможного отхода штаба бригады. Ребята поехали открыто на санках. Заглянули в одну деревню — гитлеровцев нет. Направились в конечный пункт — Ключки. Вблизи никого. Лишь лиса-огневка мелькнула в кустарнике у реки. В Ключках тоже пусто, угрожающе тихо. «Что-то не так»,— подумал Величко и быстро повернул сани назад. На околице деревни разведчиков накрыл кинжальный огонь карателей. Ребята скатились с санок и врассыпную.
«Хорошо, что подоспели сумерки,— вспоминал Владимир Иванович.— Гитлеровцы не могли вести прицельный огонь, когда я, не задумываясь, бултыхнулся в Иссу. Конечно, им и в голову не могло прийти, что я переправлюсь вплавь по незамерзшей, но ледяной реке. Думали взять живьем. Спохватились. Усилили огонь. Пули, как осы, жужжали над головой, но полсотни метров от берега Иссы до густого подлеска я промчался с рекордной скоростью, Когда добрался до своих, то так продрог, что, как говорится, кишкам тонким больно было».
Легко сказать — добрался, а ведь путь немалый — более трех километров. И это в обледенелой одежде и обуви... Как сейчас вижу: на небольшой поляне среди замшелых стволов у костра пляшет человек в чем мать родила. Подошел. Спрашиваю:
— Что за самодеятельность?
— Володька Величко из разведки вернулся,— ответил кто-то из бойцов.— Возвращаясь, купальный сезон открыл.
— Ничего, товарищ комбриг,— усмехнулся пожилой партизан,— не убили в засаде — от воспаления легких не умрет. А вот подлечить бы парня не мешало. Задание-то выполнил.
Пришлось распорядиться выдать Володе из неприкосновенного запаса стакан первача.
Отбиваясь от карателей, мы не имели права забывать о главном. В феврале 1944 года подразделения бригады имели более двадцати столкновений с фашистами на коммуникациях, в марте количество боевых операций возросло вдвое. Из февральских довольно заметными были две: разгром имения Станкеева и диверсия в окрестностях Красногородска.
Имение находилось на северо-западной окраине города, в километре от зданий, где размещались солдаты охранных войск. Произвести налет крупными силами мы посчитали нецелесообразным. Поручили сделать его отряду «Смерть оккупантам». Рожко отобрал в боевую группу Д. Е. Холодкова (командир взвода), В. И. Красикова (политрук), И. В. Астратова, Н. И. Тихонова, И. П. Павлова и других разведчиков. В ночь с 13 на 14 февраля 20 смельчаков неожиданно появились у складских помещений, конюшни и скотного двора и обстреляли оккупантов. Не успели оставшиеся в живых солдаты поднять тревогу, как языки пламени уже лизали постройки. Пожар уничтожил 40 тонн сена, 50 тонн ржи и овса, почти весь сельскохозяйственный инвентарь.
Боевая группа вернулась без потерь. Кроме оружия и 900 патронов (нужда в них всегда была) разведчики захватили «языка», а на конюшне выбрали 9 лучших лошадей с упряжью и пригнали их в бригаду. Успеху налета содействовали подпольщики, связанные с отрядом Жукова, особенно Анатолий Васильев. Он был за старшего среди батраков имения.
В Красногородск Васильев не вернулся, стал бойцом в отряде имени Жданова. Ходил в разведку, участвовал в боях. В одном из них был ранен и эвакуирован самолетом на Большую землю. Вылечившись, попал в армию, дошел до Берлина. В настоящее время Анатолий Васильевич Васильев живет в Кисловодске.
В бригаде находился и брат Анатолия — Иван. Тоже был отважным бойцом. Здравствует ныне и он. Иван Васильевич живет и работает в Пскове.
Разгром имения Станкеева имел для нас важное значение. Гитлеровцы только что объявили об уничтожении крупных партизанских сил, а эти «уничтоженные» партизаны смело хозяйничают почти в расположении красногородского гарнизона. Лучшего опровержения обмана не придумаешь.
Хорошо сработал против фашистской брехни и взрыв комбината на реке Синей, тоже вблизи Красногородска. Осуществила диверсию боевая группа отряда Жукова. Мину замедленного действия весом в 23 килограмма заложил боец М. Н. Родионов. Было это в ночь на 26 февраля. А в 10 часов утра громыхнуло. В результате взрыва были уничтожены динамо-машина, освещавшая военный городок, шерсточесалка, мельница на два постава, лесопилка. Сгорело трехэтажное здание хлебокомбината и 12 тонн зерна.
Приближалась весна. Утром года называл Александр Сергеевич Пушкин март месяц. Утро 1944-го обещало новые победы советского оружия. Нас радовали успехи 2-го Прибалтийского фронта. От оккупантов были освобождены Новосокольники, Забелье, Локнянский, Ашевский, Бежаницкий районы, частично город Пустошка и Кудеверский район. Бои велись на подступах к священным местам русского человека — Пушкинскому краю. Фашистские дивизии, оказывая сильное сопротивление, откатывались, хотя и медленно, на запад. В первых числах марта они оборонялись на рубежах: озеро Черешно (25 километров северо-западнее поселка Пушкинские Горы) — разъезд Русаки — населенные пункты Крылово, Заход, Маслиха (6 километров южнее города Новоржева) — озера Але, Калинное, Хвойно, Ученое, Лосно, Свибло, Нещедро.
В связи с наступлением войск нашего фронта начальник штаба партизанского движения Калининской области издал специальный приказ, который требовал рассредоточиться для действия на дорогах поотрядно. В приказе отмечалось ослабление боевой деятельности некоторых партизанских отрядов, рассчитывавших на скорый приход в район их дислокации наших войск. Один из пунктов приказа требовал не давать фашистам при отступлении сжигать села, увозить в Германию мирных граждан, забирать скот.
За 10-й Калининской по-прежнему закреплялись дороги Опочка — Мозули, Опочка — Красногородск — Лудза и Красногородск — Мозули. Выше я уже говорил, что в марте мы удвоили количество диверсий на дорогах и налетов на мелкие гарнизоны врага. Назову некоторые из них.
3 марта группа бойцов во главе с командиром отряда Жуковым организовала засаду на шоссе Красногородск — Опочка, вблизи деревни Кострово. Вскоре со стороны Красногородска показалась колонна автомашин. Ее встретили пулеметным огнем. Был он губительным для гитлеровцев: одна машина сгорела, остальные три свалились в кювет.
В тот же день Жуков предложил комиссару Волкову:
— Давай завернем к Ночево. Тряхнем гарнизон.
Накануне гитлеровцы установили в этой деревне небольшой гарнизон из только что набранных, частично в принудительном порядке, полицаев. Старшим был назначен немец фельдфебель.
— Полицаи там свеженькие,— ответил Николай Александрович,— необстрелянные. Лучше предложим им сдаться без боя.
Жуков согласился с комиссаром. Через агентуру был передан гарнизону ультиматум, назначен час сдачи. И... задолго до него новое «осиное гнездо» перестало существовать. Разбежались полицаи по домам и по лесу. Большинство бросили оружие.
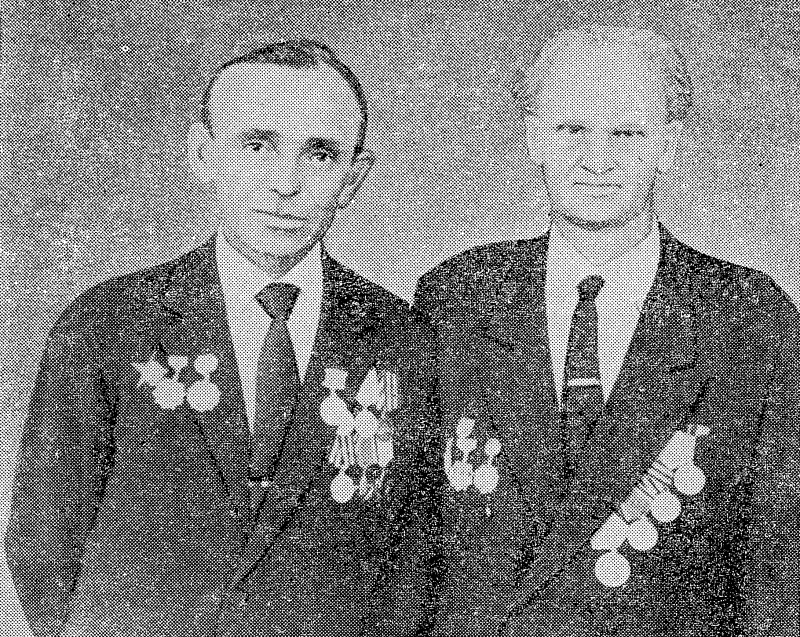
Партизаны-разведчики (слева направо): Н. П. Иванов, Е. Е. Леонов
4 марта в засаду в сторону Латвии повел бойцов комиссар отряда «Смерть оккупантам» Антипов. Обосновалась группа на подступах к деревне Ледники. Здесь и вступила в бой с гитлеровцами, сопровождавшими автомашину, нагруженную боеприпасами. Смельчаки уничтожили легковой автомобиль вместе с офицером вермахта, более десяти солдат. Груз взлетел на воздух, машина — в щепки.
И еще одна засада. 11 марта группа бригадных разведчиков в составе А. Д. Дмитриева, Н. П. Иванова, Е. А. Тереня, С. Д. Дмитриева, Л. 3. Егорова, Н. В. Бартеньева, Г. П. Петрова, И. Г. Баранова, П. Д. Дмитриева, Н. А. Петраченко, Н. Н. Орехова и пулеметчиков из отряда «25 лет Октября» С. С. Чапкевича и Н. Н. Чапкевича под командованием П. 3. Позднякова дала бой гитлеровцам на шоссе между деревнями Малая Язвица — Пески. Это в направлении к станции Идрица. И тут нам сопутствовала удача. Из ста фашистов каждый пятый остался навечно в мозулевских снегах.
В штабе партизанского движения понимали, в сколь тяжелом положении стали мы находиться в связи с приближением к нашим районам линии фронта. Штаб усилил переброску нашим бригадам вооружения, взрывчатки, снаряжения и продовольствия. Летчиками части, которой командовал подполковник Золотов, за 15 летных ночей марта в бригады калининских партизан, действовавших в районе Себеж — Идрица — Красногородск — Опочка, было переброшено 50 пулеметов, около 100 автоматов, 406 ООО патронов для ППШ, более 2000 гранат, свыше 3600 мин, 4000 килограммов тола и другие необходимые боеприпасы. Кроме того, поступило около 1 тысячи пар холодной обуви, некоторое количество продовольствия, медикаменты и для раненых партизан 91 килограмм сахара.
91 килограмм. Мизерная цифра по нынешним временам, но тот, кто партизанил вблизи линии фронта в огненном кольце вражеской блокады, знает, что такое кружка чая с куском сахара для тяжело раненного партизана или для ребенка. А ведь ребятишек, укрывшихся в лесных лагерях (они носили название — гражданские) вместе с матерями под защитой партизан, было более тысячи.
Как правило, в обратные рейсы летчики забирали с собой тяжело раненных и сильно больных партизан. В те февральско-мартовские дни были спасены таким образом 207 наших боевых товарищей.
В засадах на дорогах мы теперь теряли меньше людей, чем летом или осенью, но ощутимы стали потери в разведке. Сказывалась высокая концентрация вражеских войск под Идрицей, Себежем, Опочкой, в соседних уездах Латвии. Тревожным ознобом сердца отзывался каждый доклад командиров отрядов о потерях. 8 марта 1944 года слушаю началыника штаба отряда имени Кирова Иванова:
— В деревне Мулдово разгромили молочно-сливочный пункт немецкой ортскомендатуры. Оборудование все уничтожено. В квадрате 00 — 68 приняли бой с подразделением противника. Фашисты потеряли убитыми более десяти человек.
Говорит Иванов словно нехотя, сам мрачнее тучи. Присутствовавшая в штабе Анастасия Васильевна Павлова не выдерживает:
— Да не тяни ты за душу, Ерофей Федорович, говори, кого потеряли.
— Степана Андреевича,— выдавливает Иванов.
— Андреева? — кричит Павлова.
— Андреева? — переспрашиваю и я, хотя и так ясно, что погиб еще один из легендарной «неуловимой восьмерки».
7 марта командир взвода отряда имени Кирова Андреев с небольшой группой своих бойцов отправился в разведку. Что-то подвело опытных партизан, и они напоролись на засаду. Врагов было раз в пять больше. Прикрывая отход группы, Степан Андреевич засел в одном из крайних домов деревни Мулдово. Фашисты окружили и подожгли его. В ответ на предложение сдаться из горящих сеней в гитлеровцев полетела граната.
А командира «неуловимой восьмерки» Алексея Васильевича Андреева мы потеряли немного раньше— в разгар зимы. И он погиб, прикрывая отход своих бойцов. Две последние гранаты в наседавших фашистов — и те в замешательстве отпрянули назад. Но пуля одного из них угодила герою в сердце. Бойцам удалось унести тело командира. Последнее «прости» мы сказали Алексею Васильевичу под грохот салюта в деревне Афанасьева Слобода. Теперь могила Андреева на братском кладбище у Томсино Себежского района — прославленного партизанского села.
Василий Михайлович Орехов, Алексей Васильевич Андреев, Степан Андреевич Андреев. Храбрейшие из храбрых. Вечная им память!
Всю вторую половину марта 1944 года мы и соседи отбивались от карателей. Удары следовали один за другим. 15—16, 22—24 марта и 27 марта. Позже от Марго я узнал, что эти удары по нашим рассредоточенным отрядам гитлеровцы называли «весенним патрулированием». Документ о целях этой экспедиции и ее план партизаны бригады Марго нашли у убитого ими фашистского лейтенанта.
Упорные бои разгорелись в районе деревни Блон- ты. Здесь удар карателей приняли на себя отряд «25 лет Октября» нашей бригады и два отряда 15-й Калининской бригады партизан под командованием Дмитрия Александровича Халтурина.
Бригада Халтурина формировалась во второй половине 1943 года, но сам комбриг повидал уже много партизанского лиха. Кадровый военный, выходя из окружения, он в декабре сорок первого повстречал на своем пути народных мстителей, да так и остался в их рядах. Командовал боевой группой, отрядом, подорвал бронепоезд, в первые дни рейда Калининского партизанского корпуса выиграл крупный бой в районе Клиновое у регулярной части вермахта, выиграл по всем правилам воинского искусства. Позже на посту начальника штаба бригады Дмитрий Александрович вместе с комбригом Бойди- ным организовал несколько удачных налетов на довольно крупные гарнизоны врага.
Но в марте 1944-го сказалось превосходство в силах карателей, и отряды Халтурина были оттеснены с рубежей обороны. Под покровом ночи отошел и отряд Ветковского из нашей бригады. 16 марта фашисты ворвались в опустевший лагерь отряда Жукова, а затем повернули в сторону расположения отрядов бригад Гаврилова и Марго.
Отходить без больших потерь, да так, чтобы каратели не приняли наш маневр за бегство, нелегко. Много умения, выдержки и отваги требовалось и от командиров, и от бойцов. Но каково было тем, кто оставался в потаенных землянках с тяжело раненными и больными тифом? У меня сохранилось письмо-воспоминание Валентины Бусовой (ныне Беловой) написанное по моей просьбе сразу в послевоенные годы. Валю оставили охранять и помогать в лечении разведчиков, которые, возвращаясь с боевого задания от линии фронта, подхватили в дороге тиф. Привожу это письмо почти полностью:
«За всеми больными тифом ухаживала бригадная санитарка Женя Лапкина, скромная, очень добросовестная девушка, моя землячка. Я ей помогала: кипятили в котле одежду тифозных, готовили пищу. Ребята молодые. Дело пошло на поправку. Пришли в себя Митя Лебедев, Яша Жагора, Ваня Ярославский, дед Минай из бригадной хозчасти и другие товарищи, чьи фамилии запамятовала. Мне нужно было со связным уходить в отряд, но тут привели в наши землянки разведчика Ивана Сергеева, раненного в обе ноги. Я замешкалась с уходом, а рано утром 15 марта к нам прибежал разведчик и сказал, что немцы на «ноге» — наступают, значит, уже в трех километрах от лагеря.
Мы с Женей быстро одели всех больных и посадили на две повозки. Торопились — иначе несдобровать. Когда проезжали мимо деревни Церьковки, попали под огонь карателей, но ничего — обошлось. Добрались до потаенных землянок на болотном островке. Разместили своих подопечных: больных — в одной землянке, раненых — в другой. Вскоре всех нас сморил сон.
Спала, как в детстве, крепко-крепко, проснулась от грохота — гитлеровцы стреляли по островку. Схватила свой карабин, выбежала из землянки, а Женя уже погрузила тифознобольных. Была на другом островке у нас еще запасная землянка. Хотела бежать за повозкой, чтобы в случае прикрыть огнем, смотрю — ползет Иван Сергеев. Не оставлять же товарища врагу на поругание и смерть. Подхватила его под мышки — потащила. А фашисты все ближе и ближе. Ну, думаю, конец. Слышу шорох сзади. Оглянулась — славная Женька ко мне на помощь ползет. Еще метров двести ползком... Когда поднялись, землянки наши полыхали огнем. Рвались гранаты.
Что делать? Бежать за своими, за повозкой — поздно, да и след каратели могут взять. Затаились в кустах. Просидели, мокрые, замерзшие и до смерти усталые, ночь. Днем встретили отбившихся от отряда партизан-латышей. Вместе с ними добрались до своих. И надо же — все живы остались. Сергеева перебросили в советский тыл самолетом».
Неустрашимость Вали и Жени в те страшные часы — она почти неосознанная — из сердечных глубин, от твердого понимания: «Так надо!»
Последний удар в марте каратели нанесла 27-го. В сохранившемся у меня донесении командира отряда Жукова сообщалось:
«27 марта 1944 года противник силою до 1000 человек, вооруженный тяжелыми минометами и пулеметами, в 9-00 предпринял наступление против отряда имени Жданова в районе дислокации — квадрат 90—80. Наступление шло с трех сторон — северной, восточной и южной. С западной стороны была устроена засада. В результате 40-минутного боя отряду удалось выйти из окружения».
Вот так лаконично и скромно в донесениях. А на деле? Отряд только что расположился на отдых. Накануне вечером командир Жуков и комиссар Волков водили бойцов в налет на полицейский гарнизон в селе Богородицком. Возвращаясь после разгрома очередного «осиного гнезда», пришлось иметь боевое столкновение в районе деревни Березица с запоздавшей вражеской подмогой разбитому гарнизону. Подрывная группа отряда в это же время была на минировании дороги на шоссе Опочка — Себеж.
И вот вместо отдыха — бой в окружении, когда на каждого бойца 5—б гитлеровцев.
Сила прорыва. Она — производное многих факторов. Постоянная разведка и хорошо организованное охранение лагеря не позволили карателям застать партизан врасплох. Несдобровать бы отряду, если бы командиры не разгадали замысла противника навязать партизанам прорыв в сторону леса. И конечно, неукротимость духа, отвага.
А ведь каратели поначалу уже торжествовали победу. С их стороны раздавались крики: «Сдавайтесь или всем капут!» При сближении автоматчики старались стрелять по ногам — нужны, видимо, были гитлеровцам пленные для получения сведений о партизанских лагерях.
Прорвался отряд. И раненых спасли — спрятали в болоте. Ночью Зина Плюскова переправила их в себежские леса.
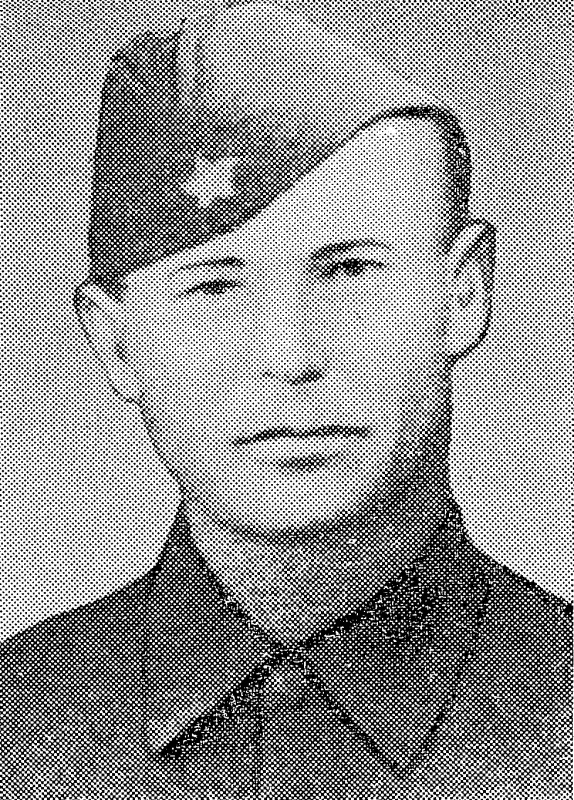 | 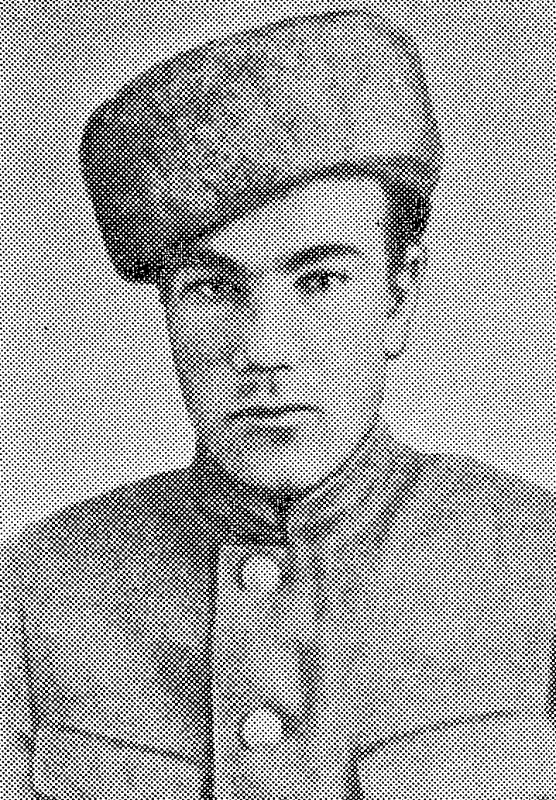 |
| С. А. Андреев - командир взвода | В. П. Клинаев - фельдшер отряда |
В тех боях был тяжело ранен военфельдшер Василий Клинаев — ветеран бригады. Досрочно окончив фельдшерскую школу, Василий ушел на фронт в составе добровольческого коммунистического полка. . Попал в плен. Дважды бежал от гитлеровцев. Первый раз выпрыгнул из железнодорожного эшелона с военнопленными, но был пойман и зверски избит. Второй побег удался. Скрывался у крестьян- белорусов. Здесь судьба и свела его с лейтенантом Лебедевым, формировавшим партизанскую бригаду «На запад». У нас он как специалист пользовался авторитетом, участвовал во многих боевых операциях. Бойцы, несмотря на молодые годы Клинаева, называли его уважительно: товарищ доктор. Нам вскоре удалось эвакуировать Василия на Большую землю. Ныне Василий Павлович Клинаев — заслуженный врач РСФСР. Живет и работает в Саратовской области.
Нельзя еще раз не сказать о наших медиках доброе слово. На смену метелям в апреле пришла сне- жица — весенняя талая вода. По народному поверью она возвращает силы. Все это так, но раненые наши находились на болотных островках, там же таились жители сожженных врагом деревень. Холод и отсутствие хорошей обуви вызвали вспышку заболеваний, участились случаи тифа и малярии.
Самоотверженно наши доктора, фельдшера, медицинские сестры и санитарки боролись за жизнь бойцов. Медикаментов не хватало. Присылали их из советского тыла немного. Выручали подпольщики из населенных пунктов, где стояли гарнизоны противника. Доставали всякими правдами и неправдами. Шло изготовление разных настоев и микстур и кустарным способом из корней лекарственных трав, коры, сушеной ягоды. Как-то иду с адъютантом и двумя автоматчиками к отряду Ветковского — навстречу группа бойцов. Вооружены, но в руках какие-то мешочки, лукошки. Спрашиваю у старшего:
— Куда посланы?
— Заниматься журавлиной работой,— улыбается командир.
— Какой-такой журавлиной? — не понял я.— Что за шутки?
— Идем по приказу комиссара отряда собирать клюкву для санчасти,— отрапортовал сержант и, не сдержав официального тона, добавил: — Говорят, товарищ комбриг, из-под снега она сверхлечебная.
Через руки нашего медперсонала прошло только тяжело раненных около полутораста человек. Смертность не превышала двух процентов. А сколько ран пришлось перевязывать в бою, скольких людей лечить в гражданских лагерях от навалившихся болезней. Кто это сосчитает! В дни войны не было принято говорить о клятве Гиппократа, да вряд ли про этого выдающегося врача и естествоиспытателя древнего мира знали наши медсестры и санитарки. Но все они поступали так, как того требует клятва на верность священному долгу целителя-врача. И за это наше партизанское спасибо тогда, сейчас и на будущие времена хирургу В. П. Щелкуновой, военным фельдшерам Е. А. Башкирову, Н. Ф. Брюхову, Р. Ф. Габайдуллину, П. Е. Сафонову, медицинским сестрам А. И. Морозовой, А. Н. Наумовой, 3. Д. Егоровой, А. М. Никитиной, бесстрашным санитаркам Н. М. Захаровой, М. Г. Григорьевой, К. Г. Зуйковой, Л. М. Карузиной, М. С. Лой, С. Д. Муравьевой, Т. К. Крестьянской, В. П. Зотчик, Е. Р. Кругляковой и другим медицинским работникам бригады.
Каждая новая карательная экспедиция уменьшала число жителей деревень Красногородского и Сб- бежского районов. Зато возрастало население лесных лагерей. До трех тысяч женщин, стариков, подростков и детей размещалось в лагерях «Митрин остров», «Гора Камениха», «Черная речка», «Волчьи ямы», «Костино поле», «Яблочкино». Главной хозяйкой по «расквартированию» у нас была А. В. Павлова — член Красногородского подпольного райкома партии. Действовала она энергично, поступала справедливо. Ее слушались и старые и малые.
Лагеря, как правило, устраивались в труднодоступных для врага местах. Например, лагерь «Митрин остров» был расположен на островке площадью в один гектар, окруженном малопроходимым болотом. С целью маскировки верхушки крупных деревьев на нем были подрезаны. Строго соблюдались правила топки печей. Проходы и выходы к лагерю осуществлялись не одной дорогой, а мелкими тропами. На высокой ели находился наблюдательный пункт. Дежурство на нем неслось круглосуточно.
Охраняли «Митрин остров» юные бойцы, именовавшие свою группу громко и солидно: взвод охраны. Храбрые подростки Сергей Дубровин, Николай Дубков, Иван Андреев, Аня, Вася и Иван Барабаш- кины, Иван Борисов и другие «орлята» — всех фамилий их уже не помню. Командовал ими шестнадцатилетний Юра Зубков, тот самый парнишка, что вместе с отцом прибыл в наше распоряжение в первые дни прихода бригады в междуречье. Ребята были хорошо вооружены. Они не только охраняли лагерь, но и ходили в разведку.
Население гражданских лагерей всецело жило жизнью нашей бригады. Женщины выпекали хлеб для отрядов, шили белье из парашютного полотна, стирали, топили землянки-бани. За порядком в лагерях следили несколько человек, которым была предоставлена немалая административная власть. За всякое нарушение штаб бригады взыскивал с них. Ну, а они, в свою очередь, не давали спуску нарушителям порядка. Одним из таких «лагерных комендантов» был участник гражданской войны И. М. Прокофьев. До войны Иосиф Матвеевич работал участковым милиционером, и, надо сказать, его профессиональная привычка блюсти железный порядок была очень кстати. Любую мелочь подмечал. Бывало развесят женщины свое немудреное бельишко на. деревьях после стирки, а Прокофьев тут как тут, шумит:
— Вы, что, сороки-белобоки, воздушных разбойников приманиваете. Хотите под арест попасть?
Иному нарушителю приходилось ночь-другую провести в холодной бане. Это за мелочь, за больший проступок наказывали строже.
В апреле стало в лагерях очень тяжело с питанием. Запасы поистощились. Выходить жителям на пепелища родных деревень, чтобы вырыть спрятанные в ямах продукты, было почти невозможно — свирепствовали каратели. Особо большая нужда была в соли и жирах. И тогда комиссар бригады предложил:
— Давай-ка, Николай Михайлович, попросим помощи у латышей. Самсон сейчас, кажется, кое-чем располагает.
— А разведданные у тебя верные? — шутливо спросил я у Романова.
— Абсолютно,— в тон мне ответил Павел Гаврилович.
И вот мы в пути. Апрель набирает силу. Снег еще цепко держится за вывороченные пни, пластами лежит в ложбинках. Лошади часто идут по весело журчащей весенней воде. А на душе невесело. По всему видно, фашисты вот-вот обрушат на наши отряды новую карательную экспедицию. Масштаб ее, очевидно, превзойдет все остальные. А у нас возможности для маневра ограничены.
Мои думы подтвердил и Вилис Петрович Самсон. Принял он нас хорошо. На нашу просьбу ответил:
— О чем разговор. Поделимся. Соль есть. Жиры найдем — потрясем кое-кого из той породы людей, о которых русская пословица говорит: «В бок не двинешь, так и с места не сдвинешь».
Самсон командовал в это время 1-й Латвийской партизанской бригадой. Штаб Самсона тоже располагал данными о готовой к выходу новой карательной экспедиции.
Весеннее половодье, необходимость охранять мирных жителей, лишенных крова и хлеба, создали дополнительные трудности для отрядов. Однако политико-моральное состояние бойцов бригады не снизилось. В этом была большая заслуга коммунистов и комсомольцев. Ряды отрядных партийных и комсомольских организаций к весне 1944 года пополнились боевым народом. 101 коммунист, 270 комсомольцев- немалая сила. И она давала себя знать. Прежде всего, конечно, в боевых делах. Каждый вступающий в те дни в партию или комсомол знал: воевать он теперь обязан лучше, с него должны брать пример другие. Бывший подрывник отряда «Смерть оккупантам» Виктор Михеенко вспоминает:
«Мне не было полных шестнадцати лет, но я уже не раз ходил на боевые задания. Командир нашей подрывной группы Володя Кирьянов хвалил меня, и я думал, что достоин стать комсомольцем. Подал заявление. Заседал комитет на лесной опушке. Члены его сидели на пнях и были такими строгими и все такие боевые по делам, что я сдрейфил — решил: не примут. Приняли, а напутствие дали такое: «С сегодняшнего дня ты, Виктор, двужильный. Будешь первым в бою, неунывающим в походе, последний сухарь пополам с товарищем».
Поначалу пятнадцатилетнего паренька из деревни Яшково Идрицкого района Витю Михеенко не хотели брать в партизаны, советовали подрасти. Упрямый подросток отправился вслед за бригадой. Шел 30 километров, и тогда командирское сердце дрогнуло... Став комсомольцем, Михеенко точно следовал наказу, полученному на опушке леса. Позже храбро воевал в рядах армии, был танкистом в прославленной Кантемировской дивизии. Закончил войну в Праге коммунистом. Вот она, славная боевая юность!
Коммунистам и комсомольцам было тоже с кого брать пример. Политруки взводов И. Я. Порядин, Юрий Якимов, Вера Ганюшкина, Н. Я. Ерофеев, Я. Тереня, С. Ф. Иванов, И. А. Тучинский, И. Красиков, Н. Ф. Прищепов, А. П. Захаров, П. Е. Гришанов — что ни фамилия, то неустрашимый человек... Шел бой с апрелковским гарнизоном врага. В какой-то момент дрогнули ряды атакующих партизан под яростным пулеметным огнем. И тогда раздался звонкий голос вожака комсомола Веры Ганюшкиной:
— За мной, ребята!
Девушка первой бросилась к зданию, где засели пулеметчики.
Таких примеров много в боевой летописи бригады.
Ни снежные, ни свинцовые метели не могли прекратить большую политико-массовую работу наших коммунистов и комсомольцев в деревнях, которые еще не были сожжены дотла карателями, в крупных населенных пунктах, где стояли гарнизоны врага. Сводки Совинформбюро, переписанные на обрывках бумаги, наши листовки и листовки штаба партизанского движения часто появлялись там, звали к со противлению. На какие только ухищрения не шли наши агитаторы. Сауликова и ее помощники вписывали наиболее важные сообщения из советского тыла в статьи фашистской газетенки, которая вывешивалась во многих видных местах Красногородска, Мозулей и в других населенных пунктах. Радовались блюстители «нового порядка» тому, что жители проявляют большой интерес к их печатному слову. Не сразу разгадали «междустрочный секрет» партизанской агитации.
А она была действенной. Тому подтверждение — создание новой подпольной группы в самом Красногородске (Василий и Владимир Тарасовы, Юрий Вальковский и другие), переход в бригаду группы польских военнопленных во главе с Тадеушом Гонсировским, работавших на строительстве новой ветки железной дороги, 18 солдат-латышей из 327-го дорожно-строительного батальона. Стали не редки случаи добровольной сдачи в плен солдат-немцев. Один из таких солдат — двадцатилетний Ганс, в прошлом рабочий, попросил доверить ему оружие и несколько раз участвовал в боях против гитлеровцев. Ганс был храбрым партизаном и отменным шутником. Когда гремели последние залпы партизанских автоматов на старой латвийской границе, ему доверили отвести несколько десятков пленных на сборный пункт к Опочке. По дороге Ганс заставил их разучивать «Катюшу». К концу пути они хотя и не очень стройно, но довольно старательно выводили: «Расцветали яблони и груши...»
Улучшилась, стала более конкретной и оперативной политработа в отрядах и боевых группах. Комиссары Волков, Федоров, политрук Порядин, комсомольские активисты Сауликова, Якимов, Орлова и другие товарищи почти всегда провожали (если сами не уходили с группой) бойцов на боевое задание напутственным словом. Вернувшихся в лагерь подрывников и разведчиков информировали о последних известиях, принятых по радио. На вооружении политработников были и хороший рассказ из истории Родины и, конечно, песня. Особенно любили слушать бойцы рассказы Ерофея Федоровича Иванова о партизанских боях в Сибири, в которых прошла его боевая молодость в годы гражданской войны.
Трудно ответить на вопрос, кто и когда подобрал слова песни «Мать и сын», часто звучавшей в землянках. Немудрые слова ее повествовали о встрече парня с матерью на пепелище родного села, сожженного фашистами. Сжималось невольно сердце от слов:
Вышла откуда-то старая мать:
— Где же, сыночек, тебя принимать?
Немцы-враги все забрали, сожгли,
Настю, невесту твою, увели.
Последние слова песни рассказывали о решении парня уйти в партизаны. И это было понятно, близко сердцу и слушателей и исполнителей:
Ловко прилажен походный мешок,
Свежий хрустит под ногами снежок.
Вьется и тает махорочный дым,
Тропой партизанской к друзьям боевым.
На мотив известной песни «Сотни юных бойцов» пели в наших отрядах песню «Месть», которая начиналась словами:
Под лозиной густой партизан молодой
Притаился в засаде с отрядом.
Под осенним дождем мы врага подождем,
Уничтожим фашистского гада.
Популярны были песни «Кубанка», «Женька». Звучали и принесенные из-за линии фронта «Синий платочек», «Темная ночь». Оттаивали сердца от песни, горе, невзгоды и тяготы походной жизни как-то отодвигались на второй план.

В. А. Ершов - командир группы
Конец первой недели апреля принес в наши лагеря весть о выступлении карателей против бригады Лисовского и других партизанских формирований, находившихся в лесах в южной части Себежского и Идрицкого районов. Одновременно узнали мы о бомбежке вражеских гарнизонов в Опочке и Идрице советскими самолетами. Мы в эти дни провели несколько удачных диверсий на коммуникациях врага. Группа партизан отряда имени Жданова (командир В. А. Ершов) на шоссе между гарнизонами противника в деревнях Малиновка и Кременцы сняла полевой провод связи протяжением в три километра. Отряд «Смерть оккупантам» под командованием И. П. Рожко устроил засаду на дороге к Латвии. Из противотанковых ружей и пулеметов была обстреляна вражеская колонна. Три машины были уничтожены. Фашисты большими силами устремились преследовать партизан, но отряд, не понеся потерь, растворился в ближайшем лесу.
Числа 13 или 14 апреля в сопровождении Георгия Самоучкина я отправился в урочище Лоховня. Стоял теплый день, но тучи, из-за которых время от времени показывалось солнце, были серо-грязными. Впереди нас громыхнуло.
— Пушки бухают,— встрепенулся задумавшийся Георгий.
Я прислушался. Опять и опять громыхнуло.
— Нет, Жора. Не канонада, а первый весенний гром.
Да, это был гром, необычный для апреля. Под его раскаты мы и прибыли в «партизанскую столицу» Лоховню. У Марго застали Бойдина. От него узнали название готовящейся новой карательной экспедиции. Гитлеровцы закодировали ее под именем «Пасхальная»— приближался религиозный праздник пасха. Спросил у Федора Тимофеевича:
— Откуда название известно?
Бойдин рассмеялся:
— На бронированном хорьхе сам комендант Опочки в бригаду заезжал. Сказал — капут нам.
— Поэтому и дрожишь как осиновый лист,— пошутил Марго.
— Жрать хочу, Володя. В желудке у меня все волки Лоховни зубами лязгают.
— Потерпи. Сейчас распоряжусь — принесут котлетку из конины.
— Нох айне.
— Чего? — не понял Марго.
— Еще одну,— перевел Бойдин,— соображаешь: одну и еще одну.
В бригаде Марго зарезали несколько лошадей. Угощая нас котлетами, Владимир Иванович рассказывал, какой бой пришлось из-за этого выдержать с членом бюро Себежского подпольного райкома партии Павлом Силантьевичем Васильевым, в чьем ведении были партизанские комендатуры. Оно и понятно: приближалась посевная страда. А какая пахота без лошадей.
Ранним солнечным утром 16 апреля разразилась самая большая в 1944 году свинцовая метель в нашей округе, продолжавшаяся четверо суток. Началась она градом бомб на Лоховню и некоторые другие базы бригад Бойдина, Гаврилова, Карликова, Бабакова и Халтурина. Бомбежке и пулеметному обстрелу подвергались и деревни партизанской зоны. Вражеские самолеты поднимались в воздух с идрицкого аэродрома и шли волна за волной. Затем двинулись каратели общим числом до 10 тысяч человек, с артиллерией и танками.
В наиболее трудном положении оказались бригады Марго, Бойдина, спецотряд Гришмановского, отряд Либы из бригады Гаврилова. Карателям удалось овладеть несколькими партизанскими лагерями, нарушить связь между многими отрядами. Противник настолько был на этот раз уверен в успехе, что в штаб охранных войск командующий экспедицией отправил радиограмму: «1400 партизан окружены плотным кольцом в районе Матвеево, Городище, Фетьково. 17.4 окруженные партизаны будут уничтожены». Это хвастливое заверение было перехвачено и дешифровано в штабе нашего фронта в конце первого дня «Пасхальной».
Критическое положение создавалось для нас у реки Веть, К вечеру 16 апреля в районе брода сосредоточилось не менее тысячи человек. Отряды Марго, один из отрядов Халтурина во главе с комбригом, партизаны других бригад, в том числе группа подрывников (старший Валентин Ершов) нашей бригады, партизанский госпиталь, эвакуированный из Лоховни,— все это нужно было переправить через студеную Веть. Переправлялись с боем. Каратели вскоре пристрелялись к броду. Не всех досчитались в отрядах после ледяной купели. Раненых, не сумевших преодолеть водную преграду, каратели зверски добили.
Переправившиеся через реку партизаны углубились в большие болота. Мокрые с ног до головы, отсиживались на островках и на кочках. Строжайший приказ запрещал разводить костры, курить, перекликаться. Непроглядную ночь расчерчивали во всех направлениях трассирующие пули, на берегах реки взлетали в небо ракеты. Беспрестанно строчили пулеметы.
Из кашей бригады бой с карателями вел отряд Ветковского в районе южнее деревни Блонты, Фашистов было около 800 человек с минометами и артиллерией. Рядом отбивали натиск карателей бойцы бригады М. П. Карликова. Эта бригада была сформирована из бойцов 8-й Калининской бригады, разбитой карателями весной 1943 года в Кудеверском районе. Соединение небольшое — чуть свыше 200 человек.
Остальные наши отряды находились в северной части Красногородского района и в зону активных действий экспедиции не попали. Тяжелые испытания выпали на долю большой группы бойцов из отряда имени Кирова. Группа под командованием лейтенанта Павла Петрова, возвращаясь издалека в лагерь, выдержала неравный бой с гитлеровцами, израсходовала все боеприпасы, а на подступах к лагерю вечером обнаружила карателей. Об экспедиции Петров и его товарищи не знали.
В разведку пошли четверо: фельдшер Аркадий Ярдаков, пулеметчик Станислав Воронков, разведчики Василий Соколков и Эдуард Сипченко. Ребята отдали им последние патроны. Не прошло и двадцати минут, как послышалась перестрелка, взрывы гранат... Идти в лагерь с одним холодным оружием Петров не решился. Стали ждать возвращения разведки.
Вспоминая ту страшную ночь, Павел Петрович проживающий ныне в городе Холм, пишет:
«Лишь на рассвете вернулся Сипченко. Он рассказал: Ярдаков и Соколков убиты, Воронков ранен лагерь взорван и сожжен, каратели ушли. Мы направились к лагерю. По дороге нашли обезображенное до неузнаваемости тело Ярдакова. Рядом валялись окровавленная медицинская сумка и наган без единого патрона. По куче автоматных гильз обнаружили место, где принял бой Соколков, но трупа нигде не было. Можете представить нашу радость: в лагере нас встретил верхом на лошади Василий. Раненный в обе ноги, он отполз в кусты, а когда каратели ушли — поймал лошадь, бродившую по опустевшему лагерю. Вот они, настоящие герои нашего далекого прошлого: Ярдаков, Соколков, Воронков, Сипченко. Вчетвером дрались против сотни врагов».
К этому эпизоду следует добавить: по моему приказу группа Петрова, пополнив боеприпасы, через несколько часов вступила в бой. От населенного пункта Ровно двигалась колонна карателей — около 300 солдат. Нужно было задержать ее. Петров с 60 бойцами сделал засаду в районе кладбища. Гитлеровцам удалось окружить партизан. Кольцо стало ежи- ! маться. Худо пришлось бы ребятам, но в это время | с тыла по карателям был открыт сильный автоматный огонь. Это на выручку подоспели партизаны бригады Самсона. Гитлеровцы не выдержали боя и отошли.
Четверо суток полыхали пожары. Каратели, преследуя маневрирующие отряды партизан, уничтожали на своем пути деревни, хутора, лесные лагеря. Захваченных стариков, детей, женщин загоняли в сараи и, облив их бензином, поджигали. Только в Себеж- ском районе в те дни фашисты расстреляли и заживо сожгли более 260 жителей, из них 50 детей, угнали с собой около 600 человек.
Карателям удалось обнаружить лесной лагерь жителей деревень Машнево и Ноглово. Часть из них фашисты загнали в большую землянку, вырытую в горе Камениха, набросали соломы у входа и зажгли ее. Тех, кто пытался выскочить из огня, кололи штыками, добивали ножами. Остальных жителей погнали на поляну под пулеметный огонь. Чудом спаслись девочки-подростки Катя и Зина Борисовы. Раненные, они притворились мертвыми. От них мы и узнали подробности этой трагедии.
Так же зверски поступили каратели и с жителями деревни Репшино. Пулеметный огонь скосил всех. Уцелела лишь одна семья — Татьяна Григорьева и ее трое малолетних детей. Землянка их была очень маленькой. Один из карателей пытался просунуться в дверь — не получилось. Тогда другой в трубу землянки бросил гранату. К счастью, она не взорвалась.
19 апреля каратели окружили деревню Бараново Красногородского района. Вытолкав из изб 27 стариков и подростков на площадь, потребовали сказать, кто в деревне связан с партизанами. Все молчали. Офицер повторил приказ. Опять молчание. Предводитель карателей злобно выкрикнул:
— Жечь!
Запылали избы. Не сразу поняли запертые в сарай жители, какая смерть с нечеловеческими муками их ожидает. Но вскоре дым заполонил постройку. Более сильные ринулись к двери. Сломали засов, но на улице попали под автоматные очереди врага. Из 27 мужчин спаслось 7. Двое из переживших этот кошмар здравствуют и ныне. Николай Алексеевич Алексеев, рабочий совхоза «Калининский», и Михаил Федорович Федоров, колхозный пенсионер — живые свидетели зверств немецко-фашистских захватчиков.
«Пасхальная» карательная экспедиция не достигла главной цели. Основные силы калининских партизан сохранились, и в мае их боевые группы обрушили новые удары на коммуникации врага.
Рядом с родной армией
Мы получили этот приказ в канун 1 Мая, а писало его наше начальство в день начала «Пасхальной» экспедиции гитлеровцев. Приказ № 133 начальника штаба партизанского движения Калининской области хотя, как и другие предыдущие документы, требовал одного — усиления боевой деятельности бригад, был в своем роде знаменательным. Его первые строчки прямо говорили; «В ближайшие дни должно завершиться полное освобождение Красной Армией Калининской области».
Дыхание фронта мы ощущали все больше и больше, особенно после разгрома фашистских дивизий под Ленинградом. Трещала теперь и пресловутая линия обороны «Пантера». Войска 2-го Прибалтийского фронта вели ожесточенные бои на участке Новоржев — Пушкинские Горы и севернее по реке Великой.
Приказ штаба разделял партизанские силы на шесть групп. В одну из них были включены бригады Карликова, наша и спецотряд Бобруся. Старшим назначался я. Район действий за нами закреплялся на шоссе Опочка — Красногородск — Голяшево, Красногородск — Мозули, вдоль узкоколейной железной дороги Красногородск — Опочка. Заканчивался приказ призывом действовать в завершающих боях так, чтобы фронт реально ощущал нашу помощь.
Уничтожив, как положено, текст приказа, я послал Солдатова и Е. А. Гаврилова в отряды, чтобы ознакомить с его содержанием командиров и комиссаров, а сам отправился к Бобрусю. Отряд его к весне 1944-го насчитывал до 80 бойцов и опирался на большую сеть разведчиков-одиночек. Не ошибусь, если скажу, что большинство наших бригад не имело такой обширной информации о вражеских планах, какую давали Бобрусю его 105 помощников в Опочецком, Идрицком, Себежском и Красногородском районах. Не случайно штабы советских войск смогли с помощью спецотряда установить дислокацию нескольких дивизий и 14 отдельных частей фашистских войск. Хорошо действовал чекист-пограничник!
 |  |
| Е. А. Гаврилов - начальник штаба отряда | О. М. Корнеев -подпольщик из г. Опочка |
Штаб бригады мы покинули на заре. Земля, умытая сильным обложным дождем, благоухала. В рост шла зелень. Показалось солнце. Было оно необычно ярким и каким-то веселым. И страшной дисгармонией к весенному торжеству природы чернели окрест пепелища сожженных карателями деревень. Никаких признаков жизни. Лишь из-за одной обгорелой печной трубы мелькнули зеленые огоньки одичалой кошки. Мелькнули и исчезли.
— Кошки и те людей бояться стали,— мрачно произнес ехавший со мной рядом Самоучкин.
Я промолчал. Вспомнился май 1943-го. Парад наших партизанских сил. Гирлянда салютных ракет над озером... Дело шло к очищению земли от фашистской скверны, но как тяжело достался минувший год тем, кто населял ее, кто пахал и сеял, кто выращивал хлеб. По данным командиров бригад, только в нашей округе — севернее и южнее Себежа в лесах и болотах весной 1944 года скрывалось около 9 тысяч жителей деревень, из них около 2 тысяч детей.
Страшное детство на болотных островках. Впроголодь. Без права разжечь костер днем. А многие детишки без матерей, на руках сестренок-подростков да сердобольных соседок. Такое не забывается. И сейчас нередко по ночам я вижу этих маленьких жителей наших лагерей с недетским взглядом, без улыбки, без радостного смеха. Это надо помнить, помнить всю жизнь и завещать тревожную память молодым, всем, кто придет нам на смену...
У Бобруся я застал его комиссара Андрея Максимовича Телятника. Оба они были в плохом настроении. Мое сообщение о приказе номер 133 приняли без особого подъема. Я даже поначалу растерялся и недоуменно спросил:
— Вы что, друзья, сумрачно весть радостную встречаете? Ведь речь идет о новом наступлении армии. Иль под мое начало идти не хочется? — пошутил в конце.
— Мы и так под крыло десятой частенько уходим,— ответил Бобрусь,— не в том дело.
— Так в чем же?
За Петра Васильевича ответ дал комиссар:
— Беда у нас, Николай Михайлович: в руки фашистов попали наши люди в Опочке.
— Все? —машинально вырвалось у меня.
— Нет, конечно. Но тех, кого забрали, уже никак не спасешь. Расстреляны.
Дубровский, Керчь, Фиалка, Онегин, Лида, Курок, Краснофлотская — весьма неполный перечень разведчиков в Опочке и в ее районе, снабжавших Бобруся богатой информацией о положении в стане врага. Гитлеровцам удалось выйти на след небольшой группы подпольщиков в Опочке, возглавляемой Николаем Васильевым (она имела связь и с бригадной разведкой Гаврилова), была схвачена также разведчица Кужель.
Под этим именем в спецгруппе была известна студентка Раиса Гаврилова, работавшая в опочецкой ортскомендатуре и пользовавшаяся доверием оккупантов. Это была смелая и в то же время осторожная разведчица. Был у нее «природный талант к разведке» —так утверждал Петрович — заместитель комбрига-пять. Оказывается, Гаврилова еще до выхода на нее людей Бобруся снабжала через разведчика Рэма Кардаша информацией «хозяйство» Петровича. Разведданные были всегда настолько точными, что он закрепил за Гавриловой кличку Абсолют.
Узнав о расстреле Кужели и ее помощниц, я не удержался — спросил:
— А как тот паренек из Опочки, что донесения подписывает: Мороз — и в конце рисует Деда Мороза?
Бобрусь улыбнулся:
— Здравствует Мороз. В гараже у фрицев работает. Весьма рискованно показал одному пожилому солдату советскую листовку на немецком языке. В выборе не ошибся. Солдат на другой день попросил «добавки». По схеме Мороза наши авиаторы в апреле накрыли зенитную батарею гитлеровцев, хитро замаскированную меж холмов на подступах к городу.
— В общем, лихой паренек,— резюмировал комиссар.
«Лихой паренек» дожил до Победы. Здравствует и ныне. Живет Олег Максимович Корнев в Ленинграде, работает в институте. При встречах нет-нет да и вспомним с ним Деда Мороза из разведдонесений.
Петр Васильевич порадовал меня сообщением о подготовке части его отряда к переброске на территорию Латвии. Она была намечена к моменту выхода наступающих советских войск к старой государственной границе. Комиссар добавил:
— А пока почаще по «зернышку» клевать будем на путях-дорогах отступающих фашистов.
«Зернышки» — мосты. Много их, взорванных и сожженных, было на счету у спецотряд а!
Я уже говорил о том, что до Бобруся отрядом командовал человек—поборник партизанской вольницы. Нелегко в короткий срок сплотить людей, создать боевой отряд. В решении этой задачи у Петра Васильевича были хорошие помощники. И в первую очередь военврач 3-го ранга Андрей Максимович Телятник, заменивший подорвавшегося на мине комиссара П. Ф. Федорова. Врач-комиссар, да еще в спец- отряде,— случай, конечно, редкий. Андрей Максимович оказался не только хорошим хирургом, но и на редкость душевным и принципиальным политработником.
И еще об одном помощнике командира спецотряда хочется сказать доброе слово—о молодом коммунисте Николае Анисимове. Был он уроженцем Красногородского района. Как и его отец Герасим Анисимович Анисимов, работал в колхозе, руководил сельской комсомольской организацией. А грянула война, стал помогать организовывать борьбу с оккупантами Петру Самойлову — первому секретарю Красногородского райкома комсомола. И до дня гибели его с риском для жизни выполнял задания райкома.
У Бобруся Анисимов показал себя смелым бойцом и хорошим организатором. Вскоре он стал секретарем комсомольской организации отряда. Кто-то из фашистских прихвостней донес в ГФП о политруке Анисимове. Фашисты расстреляли отца и мать Николая в Мозулях, а тела их бросили в болото. Не пощадили палачи в военных мундирах и его столетнего деда Алексея Ивановича Бордадынова.
Николай Герасимович Анисимов после войны долгие годы служил в органах МВД. Сейчас на пенсии. Живет в городе Кривой Рог.
Во исполнение приказа штаба партизанского движения № 133, мы весь май пытались усилить боевую активность бригады на коммуникациях врага. Действовали в трех направлениях: взрывали мосты, подрывали эшелоны и угоняли в лес (затем отпускали) рабочих, занятых на ремонте железных и шоссейных дорог. Вот два примера —строки из донесений командира отряда Жукова:
«Группа партизан отряда им. А. А. Жданова под командованием Сергеева третьего мая 1944 года в 8.00 заминировала шоссе Опочка — Красногородск в районе деревни Дехновка и подорвала автомашину, следовавшую из Красногородска в Опочку. При подрыве машины убито три солдата немецкой армии. Минировала Д. Ланина»;
«19 мая 1944 года в 6.00 в районе деревень Проглотино — Ломы подорван эшелон противника (рабочий поезд), следовавший из Опочки в Красногородск со стройматериалами. Поврежден паровоз и платформа, убито два солдата и машинист. Группу возглавлял Сафонов, минировала Ланина».
Аналогичные донесения поступали в штаб бригады и из других отрядов. Так, 29 мая боевая группа отряда «25 лет Октября» (командир взвода Д. С. Макеенко, политрук С. Ф. Иванов) в районе деревни Шуты минировала железную дорогу Себеж — Резекне. Минер С. И. Ярлыков заложил мины в двух местах. Поезд противника, следовавший из Латвии в сторону Себежа, был подорван двумя минами натяжного действия. В результате были сильно повреждены паровоз, два крытых вагона и пять платформ, груженных железнодорожными строительными материалами: рельсами, стрелочными переводами, шпалами.
Двумя днями раньше на диверсии отличился наш разведотряд (командир Г. А. Лапин) на железной дороге Псков — Карсава. Разведчики подорвали состав, идущий на запад — в Латвию. Одиннадцать его вагонов и платформ были загружены подбитыми в боях автомобилями. С конца мая и весь июнь большинство подорванных бойцами бригады железнодорожных эшелонов следовали через Латвию в Германию. Гитлеровцы, чуя, что их скоро вышвырнут в Прибалтику, увозили скот, зерно, лесоматериалы, подбитые танки, орудия, автомашины.
В одной из диверсионных майских операций мы потеряли хорошего подрывника — Евдокию Ланину. В группе Егорова (отряд имени Жданова) Ланина участвовала в минировании железной дороги в районе деревни Горбуново. Вторую мину было решено поставить вблизи стальной магистрали, на шоссе. В момент маскировки мина взорвалась.
Ланиной было 20 лет, когда она по велению сердца пришла в партизанский отряд. Командир его Жуков поначалу не хотел зачислять ее в подрывники (девушка видела лишь одним глазом), а потом не мог нахвалиться смелостью и выносливостью Дуси. Мария Семеновна Федорова вспоминает в своем письме ко мне:
«Накануне гибели Ланиной к нам в отряд пришел связной из штаба бригады. Он принес почту, доставленную нашими соколами-летчиками. Дуся получила сразу три письма от родных. Как она радовалась! Вслух мечтала о том, что будет делать сразу по окончании войны. В тот же день написала ответ домой. А в ночь ушла на задание и... не вернулась».
После «пасхальной» карательной экспедиции гитлеровцы в мае провели еще несколько карательных акций, но масштаб их был невелик. А главное, полевые войска против партизан не выступали. Им было теперь не до нас. Зато воздушные налеты на наши стоянки и гражданские лагеря участились. Фашистские летчики сбрасывали мелкие бомбы и, что страшнее, вели по людям пулеметный огонь.
Тактика карателей теперь изменилась. Они старались уничтожать партизан путем засад и окружения по частям. Реже выступали против отряда, а выслеживали взвод или боевую группу. Однажды в мае им чуть не удалось уничтожить одно из наших подразделений. Василий Михайлович Тарасов, наш партизан, ныне учитель Красногородской средней школы, вспоминая тот критический эпизод, рассказывает:
«На восходе солнца фашисты открыли минометный и пулеметный огонь по опушке леса, где мы находились. Затем начался прочес лесного массива. Солдат было много. Они шли с двух сторон, поливая автоматным огнем кустарник, лесные поляны, проходы между деревьями. Нам ничего не оставалось, как попытаться или просочиться сквозь цепи гитлеровцев поодиночке, или затаиться мелкими группами. Я, мой брат Владимир, Максимов, Егоров и Севастьянов залегли у болота в полузатопленные кусты дикой смороды. Лежали несколько часов, готовые к последнему бою. Каратели дважды метров на 40—50 подходили к нам, стреляли из автоматов, но мы ничем не выдали себя».
Тарасов пришел в бригаду в конце зимы 1943/44 года. До этого он был в одной из групп молодых подпольщиков, связанных с нашей разведкой. Вместе с Василием партизанами стали его отец, мать, младший брат. Каратели обнаружили Тарасову и еще нескольких пожилых женщин в горшановском болоте и расстреляли.
В те майские дни погибло немало бойцов и партизанских помощников и у наших соседей. Зверски расправились каратели с Марией Пынто — вторым секретарем подпольного Себежского райкома комсомола.
Не помню точно дату, но где-то после 10 июня я решил собрать в штабе бригады командиров нашей группы. Комиссар одобрил мое решение, сказал полушутя:
— Что-то вроде военного совета вверенных тебе войск собрать хочешь?
— Военный совет — громко, но итоги за май подвести следует. А главное — скоординировать наши действия нужно еще раз, — определил я задачу предстоящего совещания.
Приехали комбриги М. П. Карликов и Д. А. Халтурин, командиры отрядов П. В. Бобрусь и С. П. Архипов. Собравшиеся подтвердили вывод командира нашей бригадной разведки о стягивании подразделений охранных войск вермахта к латвийской границе, об эвакуации гитлеровцами награбленного имущества и части вспомогательной техники в Прибалтику. В руки разведчиков Бобруся и Карликова попали документы врага, в которых штаб охранных войск сообщал берлинскому начальству о том, что партизаны и население, укрывшееся в лесах, «методически уничтожаются авиацией и айнзатцкомандами СС».
Фашисты пытались на пути наступления советских войск создать зону пустыни. Позже мы захватили приказ командира 23-й немецкой пехотной дивизии в адрес командира запасного батальона. Последний должен был «...сжечь все населенные пункты и отдельные строения перед позициями «Рейер». И далее: «Всем частям дивизии при своем отходе угонять из деревень мужское население, скот и лошадей. При невозможности угона скота — уничтожать его. Гражданских лиц, встреченных вне населенных пунктов, считать заподозренными в сношениях с партизанами, немедленно расстреливать» [1].
Зная лютые намерения врага, видя каждодневно бедственное положение жителей гражданских лагерей, особенно детей, мы еще раз договорились о помощи им. Но все это были полумеры.
— Неужели так-таки нельзя хоть часть людей провести через линию фронта? — восклицал Павел Гаврилович Романов.
Моему комиссару ответил Михаил Прокофьевич Карликов:
— Разведчики бригад Буторина и Козлова несколько раз пытались нащупать проходы — тщетно. Сообщили об этом в штаб.
— И все же? —настаивал Романов.
— Вывести людей можно только с боем. Враг наглухо закрыл передний край.
Халтурин нервно усмехнулся:
— С боем раненых туда-сюда можно перебросить. Детишкам — верная смерть. Тревогу надо бить перед начальством. Никому не простится...— Дмитрий Александрович не договорил, махнул сердито рукой.
Все мы были взволнованы и даже подавлены. Некоторое успокоение внес Бобрусь:
— Секретари подпольных райкомов Кулеш и Васильев послали тревожные радиограммы в обком партии. Должны нам помочь. Единственный путь — воздушный мост.
Мы не знали тогда, что уже добрых полмесяца пять групп опытных разведчиков на большом участке фронта вели поиск проходов к нам со стороны советского тыла. После последней попытки командир оперативной группы капитан Яковлев радировал командованию: «17 мая группа Тетерева вышла в район озер Звериное и Лебединое. Встретили сплошную оборону врага. Вторично начали поиск 21 мая в районе Большая Шеперня — Подвялицы. Держали бой. Проходов нет».
И тогда бюро Калининского обкома ВКП(б) обратилось в Центральный Комитет партии с просьбой выделить для спасения детей в распоряжение Калининского штаба партизанского движения один авиационный полк. Просьба обкома была удовлетворена. 13-й полк ГВФ и 600-й полк ВВС получили приказ приступить к немедленной переброске детей в советский тыл.
Трудно передать на словах ту радость, которую первыми испытали мы (радист, начальник штаба, комиссар и комбриг), читая радиограмму подполковника Соколова:
«В соответствии с указанием ЦК ВКП(б) для эвакуации детей в советский тыл на ваши площадки направляются самолеты. Обеспечьте прием самолетов, безопасность детей при посадке, охрану посадочных площадок».
Аналогичные радиограммы были получены в бригадах Марго и Гаврилова.
Закипела работа по подготовке желанных гостей. Большие хлопоты взяли на себя партизаны отряда «25 лет Октября». Иван Николаевич Ветковский целыми ночами не смыкал глаз, лично проверяя готовность нашего аэродрома. На нем дежурили бойцы охраны, сигнальщики, ракетчики. Всю ночь не снимали наушников радисты.
Много было дел и у комиссара отряда Петра Павловича Макарова. Он и Фаина (Сауликова) отвечали за сбор и посадку детей. Родители встретили весть
об эвакуации сдержанно. Можно понять их. Попадая часто под бомбежки и обстрелы фашистских летчиков, они считали маловероятным благополучный исход полета. Мать троих детей Анастасия Яковлева, жительница деревни Лиственки, говорила разведчикам из бригады Гаврилова:
— Я лучше умру, чем разлучусь со своими кровиночками.
У военных летчиков и у авиаторов гражданского воздушного флота, действовавших против фашистских армий в боях за наш северо-запад, много на счету крупных операций, подвигов эскадрилий, полков. Но, не боясь ошибиться, скажу: не было более благородного и гуманного по целям подвига, чем 347 самолето-вылетов ради спасения детей в июньские ночи 1944-го.
Надо было слышать голос пожилого часового у землянки штаба бригады, чтобы понять, как ждали мы все эту весть:
— Гудят, гудят. Соколики наши летят.
Первым пробился сквозь неистовый огонь вражеских зениток, вырвался из щупальцев мощных прожекторов У-2 лейтенанта Сергея Борисенко. Было это в ночь на 22 июня 1944 года. Три года назад в такую же короткую полубелую ночь с запада на восток над нашей страной плыли, подобно огромной туче, воздушные корабли с черными крестами на борту. Теперь командование фашистской авиацией даже мечтать не могло о массированных ударах. Начинался четвертый год войны. Мы знали: трудный, очень еще тяжелый, но победный. В этой уверенности черпали силы.
Каждую ночь шли теперь к партизанскому аэродрому дети. Их сопровождали родители, политработ- ники и автоматчики. Вблизи гремели выстрелы, каратели прочесывали леса, и всякое могло случиться. В одном из своих писем из далекого Улан-Удэ Мария Григорьевна Авдохина (Сауликова) пишет:
«Сейчас не могу удержать слез, когда вспомню длинную цепочку маленьких измученных фигурок. То и дело шепотом делали перекличку -— кто отстанет, погибнет в трясине. «Тише. Поднимайте ножки осторожно. Фрицы услышат»,— говорили мы, как со взрослыми, с детьми, перепуганными насмерть пожарами, бомбежками. Как взрослые, они все понимали, были терпеливы. До сих пор в горле ком. Много лет прошло, но такое забыть невозможно».
Вспоминает Мария Семеновна Федорова (Орлова):
«Ребятишек, как огурчиков в бочку, напихаем в самолет по 11 человек. Летчик Курочкин говорит: «Все нормы перевыполнены, хватит. Эй, кто там из вас самый большой? Старшим будешь. Смотри, чтоб цыплята не высыпались. Поехали!»
В донесении штаба партизанского движения Калининской области приводятся такие данные о работе летного состава: вывезено из тыла противника ребятишек 1571, из них сирот 207. Кроме того, доставлены в советский тыл 93 кормящих матери и 105 раненых партизан.
Авиаторы 13-го полка ГВФ (командир майор Сидлеревич) не прилетали, как правило, пустыми. Бригады Бойдина, Гаврилова, Марго, Карликова и наша получили боеприпасы, оружие, медикаменты, обмундирование, соль — так необходимую всем. Мы щедро поделились ею с местным населением.
От летчиков мы узнали: детям устроен по тем временам хороший прием. В специальном детприемнике они проходили санобработку, получали обувь и одежду, горячую пищу. Позже мне рассказывали о подарке воинов 6-й гвардейской армии эвакуированным маленьким советским гражданам. Невдалеке от Невеля гвардейцы соорудили жилой городок на берегу озера: несколько домов, пищеблок, клуб, баню и даже причал с десятью лодками.
О том, что думало население нашего края в дни эвакуации детей, хорошо выразили в своем письме в адрес секретаря подпольного Опочецкого райкома партии Н. В. Васильева жители Борисенковских лесных лагерей. Они писали:
«С большой радостью мы услышали о том, что вы отправляете ребят в советский тыл. Вы спасли их от немецкого рабства. Только нашими избавителями вас и можно назвать. В советском тылу наши дети вновь получили возможность спокойно учиться. Они счастливы, и мы счастливы за них. Мы обещаем вам еще больше помогать громить фашистские орды. Красная Армия приближается к нам. Близок час, когда и мы вздохнем полной, свободной грудью. Спасибо вам, товарищи, за вашу отеческую заботу о наших детях. Передайте наше родительское спасибо партии и правительству».
Коротки июньские ночи. Светлы. Но подразделения бригады не снизили напряженной «ночной работы» на важнейших шоссейных и проселочных дорогах. На них действовали 12 подрывных групп, усиленных гранатометчиками. Они подорвали 86 автомашин противника, в том числе 7 легковых с различными чинами полевых войск вермахта. Было взорвано 9 важных мостов, спущено под откос 4 железнодорожных эшелона. Правда, до конца их уничтожить не удалось — уж очень густо стояли гитлеровцы у «железки». Отличились в те летние дни бригадные разведчики (командир взвода П. 3. Поздняков, политрук Г. Р. Винч) и спецразведотряд под командованием Г. А. Лапина.
Лето щедро раскрывало свои красоты. С каждым новым днем становились прозрачнее небеса. Неописуемо свежи были приречные луга. Молодо гремели первые грозы. А мы ждали «большую грозу». И дождались. Началась она на берегах Великой. Части нашей 3-й ударной армии (командующий В. А. Юшкевич), действовавшие в направлении Идрицы, 10 июля 1944 года устремились в прорванную брешь «Пантеры». В ожесточенных боях танкисты и пехотинцы расширили фронт прорыва до 50 километров. Не помогли гитлеровцам подкрепления, в том числе и головорезы из 15-й пехотной дивизии СС. 12 июля советские воины штурмом овладели важнейшим узлом сопротивления фашистов на путях в Латвию — станцией и поселком Идрица.
В эти же дни на правом крыле войск 2-го Прибалтийского фронта начала наступательные бои 10-я гвардейская армия под командованием М. И. Казакова. Наступление развивалось в направлении Опочка— Мозули — Резекне. О дне начала решающих боев партизанское командование в нашей зоне не было поставлено в известность. Первыми эту весть в штаб бригады принесли разведчики, да и нарастающий гул канонады — своеобразный сигнал. Наши штабисты (позже и командиры соседних бригад) выражали недовольство.
— Могли бы шифровку прислать,— говорил Авдохин.
— Мы же не последняя спица в колеснице,— вторил ему Романов.
Солдатов не разделял этой точки зрения, посмеивался:
— Да еще бы листовки сбросить над нашими лагерями с планами штаба фронта. По-детски обижаемся.
Я поначалу тоже придерживался точки зрения Авдохина и Романова, но логика подсказывала: за месяц были своим штабом предупреждены о возможном крупном наступлении в масштабах фронта, все последние недели создавали обстановку для дезорганизации тыла вражеских войск. Ну, а тайна есть тайна. Ведь это еще древние мудрецы утверждали: легче удержать горячий уголь во рту, чем тайну.
А весточку фронт нам все же прислал. Чуть попозже, перед встречей с частями наступавших войск, над линией нашей обороны по западному берегу Иссы появился самолет У-2, покачал в знак приветствия крыльями и сбросил вымпел со словами: «Дорогие партизаны, будьте осторожнее. Впереди наступает Красная Армия». Радости не было границ.
Первую операцию рядом с частями родной армии провел отряд И. П. Рожко. Утром 11 июля он ворвался в деревню Малеево и выбил оттуда гитлеровцев. А спустя два дня уже ударом трех отрядов (Ветковского, Коробкова, Рожко) мы разгромили большую колонну автомашин, спешащих к району Мозулей. При этом уничтожили шесть трехтонных грузовиков. В числе пленных был обер-лейтенант. Он показал: есть приказ об отводе тыловых частей в Латвию.
К исходу дня 14 июля подразделения Красногородской группы партизан находились на следующих позициях:
Отряды нашей бригады «25 лет Октября», «Смерть оккупантам», имени Кирова заняли оборону по западному берегу реки Иссы от шоссе Опочка — Мозули и далее по господствующим высотам на юг.
8-я бригада (командир М. П. Карликов) располагалась основными силами на шоссе Красногородск — Мозули в районе деревни Пушмачи, где находился вражеский гарнизон с артиллерийской батареей. 15-я бригада под командованием Д. А. Халтурина нацелилась одной группой на шоссе Опочка — Мозули в районе деревни Орлово, а второй группой расположилась в районе деревень Мишнево — Язвицы. Спецотряд (командир П. В. Бобрусь) остановился южнее Мозулей, в районе деревень Столбово — Козлово, а отдельный отряд С. П. Архипова — вблизи населенных пунктов Подборы — Лышкица.
Отряд имени Жданова нашей бригады развернул боевые действия в районе деревень Бахарево — Кадники, на шоссе Опочка — Красногородск и в районе озера Большое.
При такой расстановке сил под удары партизан были взяты все важнейшие дороги тыла войск противника. 32 подрывные группы, более 300 минеров-подрывников 10, 8 и 15-й партизанских бригад в ночь на 15 июля поставили более 500 противотанковых и противопехотных мин, взорвали 44 моста, сделали более 60 лесных завалов.
Правильность выбора позиции для наших сил подтвердили события 15 июля. Солнце едва поднялось из-за горизонта, как отходящие части гитлеровцев вышли к реке Исса у деревень Стоянино и Тряпичино и начали форсировать водный рубеж. Разгорелся жаркий бой. Партизаны отряда Рожко не пропустили врага на западный берег.

И. Ф. Федоров - командир взвода
В очень трудное положение попал отряд Ветковского. Сильный артиллерийский и минометный обстрел вынудил командира принять решение об отходе от шоссе Опочка — Мозули. Но это не изменило общего итога сражения на берегах Иссы — враг не прошел.
В 17 часов 30 минут на восточном берегу реки на опушке леса появились советские солдаты — бойцы прославленной 8-й гвардейской дивизии.
С командованием полка наш штаб согласовал совместные действия по разгрому фашистских сил (а их было немало) в Мозулях. Нам предстояло к утру 16 июля форсировать реку Синюю и овладеть высотой 180,1. Она господствовала на шоссе Мозули — Латвия.
Однако изменившаяся обстановка внесла коррективы в наши планы. Противник, спешно укрепляя оборону на западном берегу Синей, выдвинул в сторону Дымова батальон пехоты. Судя по донесениям разведчиков, гитлеровцы намеревались деревню сжечь, население уничтожить. Мы решили упредить вРага. В 20.00 отряд Рожко выбил фашистов из Дымова (150 жителей были спасены от верной смерти) и совместно с отрядом Ветковского южнее деревни форсировал Синюю. При поддержке артиллерийского огня гвардейского полка мы смяли оборону противника и стремительным броском овладели высотой 180,1. Западнее ее в это время на дороге Мозули — Петрученки укрепился отряд имени Кирова, прикрыв нас со стороны Латвии.
Примерно за час по полуночи тыловые части противника, сконцентрированные в Мозулях, начали отходить в Латвию. Около 400 солдат сопровождали 180 парных подвод. В обозе находилось более 300 коров.
Наши отряды открыли огонь из пулеметов и минометов. Было убито несколько лошадей и коров, уничтожено десятка три повозок. Они загромоздили грунтовую дорогу, и движение противника вперед прекратилось. Фашисты оказали упорное сопротивление в ночном бою. Высота 180,1 трижды переходила из рук в руки.
Рассвет 16 июля занялся в грохоте пушечной пальбы — это гвардейцы начали бой в Мозулях. Горизонт заволокло дымом. То была последняя дымная заря в летописи боев нашей бригады.
Вечером 16 июля мы прощались с большой группой наших разведчиков — они шли проводниками гвардейских частей по лесам и дорогам Латвии. А после я отдал последний боевой приказ по бригаде. Отряды Рожко и Коробкова получили задание очистить территорию от Мозулей до латвийской границы от бродячих групп гитлеровцев; бойцы отряда Ветковского должны были строить стеллажи в болотистых местах дорог наступления частей Советской Армии.
Не уронил своей боевой чести в последних боях и отряд имени Жданова (командир И. В. Жуков, комиссар Н. А. Волков), действовавший отдельно от основных сил бригады. 15 и 16 июля он провел успешные бои в районе деревень Кадники,, Мыза и Брыневка.
Советские воины, наступавшие от Опочки на Красногородск, встретили упорное сопротивление противника. Партизаны отряда Жукова провели по лесам и болотам части 22-й гвардейской стрелковой дивизии. Утром 17 июля она успешно форсировала реку Синюю возле Березницы.
На рассвете 18 июля 65-й гвардейский стрелковый полк под командованием подполковника Н. М. Сыркина при помощи партизан отряда Жукова штурмом овладел поселком Красногородск.
20 июля 1944 года подразделения бригады пришли на старое обжитое место — район деревни Церьковки. Отсюда маршем к Идрице, к озеру Белому. Таков приказ штаба партизанского движения.
Более 6 тысяч партизан прибыли к озеру Белому на митинг. Его открыл начальник штаба партизанского движения Калининской области С. Г. Соколов. Он коротко подвел итоги боевой деятельности народных мстителей.
От имени партизан 10-й бригады выступить поручили мне. Оратор я был неважный, но то, что сказал, говорил от чистого сердца. Благодарил партию. Вспомнил тех, кто не дошел до этого светлого дня. Доложил о готовности собравшихся идти в армию или браться за работу на пепелищах.
Война продолжалась. Она требовала новых и новых пополнений в ряды сражавшихся. 423 партизана нашей бригады (почти 60 процентов личного состава на день расформирования) стали солдатами и командирами Советской Армии. Они освобождали Польшу, штурмовали Кенигсберг, бились с врагом на Одере и Эльбе. На танке вошел в поверженный Берлин бывший политрук взвода разведки отряда имени Жданов-а Николай Андреев. Отважный минометчик Владимир Слесаренок в составе 1198-го самоходного артполка участвовал во взятии Дрездена. 9 мая 1945 года он встретил на берегах Эльбы. Наш храбрый разведчик Володя Величко продолжал охоту за «языками» в гвардейском полку 3-го Белорусского фронта. Под Кенигсбергом был тяжело ранен. Юный подрывник Виктор Михеенко был танкистом в прославленной Кантемировской дивизии, окончил войну в Праге.
Не уронили чести партизана-калининца в рядах советских войск разведчик отряда имени Жданова Владимир Иванов, Владимир Кирьянов, комсорг отряда Егор Гаврилов, Леонид Егоров...
Течет речка Синяя...
Полночь. Тепло. Тихо.
Мы стоим на вершине
насыпного холма.
В лунном свете над Синей
серебрится вода.
Это начало стихотворения-экспромта. Читает его автор — секретарь Красногородского райкома партии Владимир Васильевич Калью. Он самый молодой из нас. А мы —это десяток бывших калининских партизан, решивших после встречи с жителями райцентра в Доме культуры пройтись по берегу Синей, подняться на красногородский вал.
Древний вал, как и Синяя, был свидетелем многих битв русских воинов с иноземцами. Днем с его вершины видно далеко окрест.
От работы усталый
спит мой город родной.
Только мне до рассвета
не расстаться с тобой,—
читает наш «гид». И нам, ветеранам, очевидно, до конца дней наших земля красногородская будет самой близкой, самой дорогой. Вечным сном уснули здесь многие наши боевые друзья. Без малого четыре десятилетия отмерило с тех пор беспощадное время, но скорбь о павших живет... Алексей Волков, Николай Ильин, Анатолий Сахориленко, Николай Глинский, Алексей Андреев, Сергей Шуваев, Александр Куклев, Степан Андреев, Василий Орехов, Федор Осипов, Евдокия Ланина, Иван Семенов, Иван Павлов, Николай Прищепов, Иван Сосновский, Дмитрий Герасимов, Петр Семенов, Леонид Орлов, Аркадий Ярдаков, Сергей Романов, Тамара Николаева, Петр Лу- кашонок, Иван Емельянов... И еще... И еще...
Много отрадных перемен произошло за минувшие годы на берегах Синей, Иссы. Окрепли колхозы, набирают силу совхозы. И было отрадно нам слышать на беседе в райкоме партии о добром вкладе в укрепление хозяйства района бывших калининских партизан. Руководит большим колхозом «Искра» в прошлом отважный разведчик Л. 3. Егоров. Умножают богатства колхоза «Память Ильича» Г. П. Петров, Н. Я. Порядин, М. Н. Зубков, Н. К. Васильев, И. И. Майоров.
В райцентре поселка Красногородское (так теперь называется Красногородск) живут и трудятся бывшая подрывница Лена — Елена Михайловна Еремеева, Иван Федорович Федоров. Иван Сергеевич Сергеев — директор школы, заслуженный учитель РСФСР. Звание отличника здравоохранения присвоено Валентине Николаевне Михайловой. Неутомима по-прежнему Маша Орлова — ныне Мария Семеновна Федорова — она возглавляет местную секцию бывших партизан.
Жизнь разметала бойцов 10-й по стране. Илья Владимирович Жуков — в Калинине. Там же Павел Гаврилович Романов, Владимир Васильевич Иванов, ветеран бригады Виктор Алексеевич Шучкин — тяжело раненный в первых боях, Алексей Михайлович Архангельский, пришедший в бригаду из партизанского корпуса, Валентин Ершов — тоже ветеран 10-й, Вера Ганюшкина. В Калининской области живет и Николай Александрович Волков.
Продолжают нести вахту на врачебном поприще Батян (Шелкунова) Валентина Павловна и Клинаев Василий Павлович. Наш главный доктор служит в городе Пушкине, а Клинаев в Саратовской области. В Опочке трудится Зинаида Федоровна Плюскова (ныне Дмитриева), в Пскове—-Егор Александрович Гаврилов, в Торопце —Юрий Андреевич Якимов. Смелая подрывница Таня Коновалова (ныне Лаврова) давно уже москвичка, работает в Министерстве сельского хозяйства РСФСР. В Москве, на Внуковском аэродроме, трудится Владимир Иванович Ющен- ков. Мой верный ординарец боевой друг Георгий Са- моучкин долгое время был шахтером, сейчас на пенсии. Из Риги шлет весточки Егор Еремеевич Леонов.
...Гасли на небе звезды. Над Синей занималась заря. Светлела река. Лишь над берегом висела лохматая проседь тумана.